Таксистов это забавляет, сначала они удивляются, что девчонка так вот едет одна на прогулку, но потом безропотно возят меня по городу. Как-то один спросил, прежде чем я села, есть ли у меня вообще деньги, тогда я показала ему бумажку в сто лир и сказала:
— Но я не поеду с вами, потому что вы не поверили мне, — и пошла искать другое такси.
Я всегда сажусь на заднее сиденье, с правой стороны, записываю в записную книжечку имя шофера и номер такси на случай, если вдруг ко мне начнут приставать или еще что, держусь за петлю и раскатываю по городу, пока счетчик не покажет двадцать или двадцать пять лир. Иногда спускаюсь к порту, поброжу немного около ворот, посмотрю на корабли, куплю себе фисташек или швейцарский шоколад, быстро съедаю и возвращаюсь на автобусе домой.
Однажды меня чуть не обнаружила мама. Такси остановилось у светофора на расстоянии полуметра от маминого «фиата», я быстро пригнулась. Она сидела за рулем, глаза прикованы к светофору, словно это флаг, вся в напряжении. Я внимательно присмотрелась к ней. Лицо твердое, задумалась о чем-то, на секунду закрыла глаза, но, только зажегся желтый свет, сразу же ринулась вперед, самая первая, и исчезла среди других машин, словно опаздывает куда-то.
А дни становятся все длиннее, ночи бесконечней. В школе дела идут плохо. С той самой истории с сосунком я как бы вишу в воздухе, все время обсуждают мою судьбу, хотят исключить из школы. Учителя оставили меня в покое, не пристают ко мне, не спрашивают даже по тем предметам, по которым я делаю уроки, словно я не существую.
И я тоже рву все связи. Выхожу в три часа дня, сажусь в такси и еду в Нижний город. Я уже не ищу горы и не любуюсь красивым видом, а еду туда, где много народу, чтобы затеряться в толпе, среди потных и шумных людей, захожу в магазины посмотреть одежду или посуду, прицениться к овощам или фруктам. Меня все время толкают, общий поток куда-то несет меня, меня тошнит от всего этого, но я все слоняюсь. И вдруг кто-то слегка дотрагивается до меня и тихо говорит:
— Дафи…
Это Наим, его я не забыла.
Наим
Ну что ж, забыли меня. Уже шесть недель, как мы перестали буксировать машины и он забыл меня здесь. Две недели назад я пошел к нему в гараж, чтобы выяснить, что со мной будет. Зайти внутрь не решился, не хотелось, чтобы рабочие-арабы увидели меня и начали расспрашивать. Я ждал на улице, сидя на камне, пока он не появился. Он тут же остановил машину.
— Что-то случилось, Наим?
— Нет… я только хотел узнать, сколько еще времени мне у нее жить, у этой старухи…
Он растерялся (сразу заметно), обнял меня за плечи, ходит со мной вокруг машины и объясняет, как важно, чтобы я остался с ней, и что это будет мне засчитываться как работа в гараже. Чем плохо мне там? Если у меня не хватает денег, он даст, и он вытаскивает из своего бумажника двести лир и дает мне. Это для него самое легкое дело — всучить деньги, лишь бы я не начал задавать неприятные для него вопросы. Обнимает меня, говорит:
— Не волнуйся, я позвоню тебе, еще наладим связь. Я не забыл тебя, — и влезает в машину.
Что я мог сказать ему?
— Как поживает Дафи?.. — выпалил я, пока он не уехал.
— Хорошо… хорошо… она тоже не забывает тебя.
Он улыбается и уезжает.
С тех пор много дней прошло, и он не позвонил, никак не дал о себе знать. Забыл.
А зима совсем кончилась, и я все время шатаюсь по улицам. Фильмы мне уже надоели. Гуляю по городу, поднимаюсь в центр Кармеля, в самое сердце еврейского района, много хожу пешком. Один раз даже добрался до университета, но не пошел в канцелярию, не зашел, а заглянул в одну из аудиторий и послушал, как какой-то молодой парень с горячностью говорил о поведении мышей. Проходя мимо досок с объявлениями, я останавливался, интересовался, где какие лекции читают. Однажды забрел даже на вечер стихов в подвал районного Дома культуры. Народу было немного. Трое пожилых мужчин, несколько старух и я. Мы сидели в полутемной комнате и слушали в тишине, как двое парней в потрепанной одежде читают нерифмованные стихи о смерти и о своих страданиях. И после каждого стихотворения объясняют, что они имели в виду. Эти двое заворожили меня, и, когда они закончили, я пошел за ними в кафе и сел поблизости. Я слышал, как они жалуются организатору вечера, что публика состояла из стариков, говорят и шарят вокруг голодными глазами.
Я обратил внимание — меня уже никто не принимает за араба. Во всяком случае, евреи. Только у арабов еще возникает сомнение. Может быть, во мне изменилось что-то? Может быть, я уже не совсем я?
Изредка я езжу в деревню, повидать отца с матерью. Привожу им подарки. Один раз — зонтик, другой — две пижамы, которые я купил на распродаже в том же магазине в Нижнем городе, где когда-то купил себе. Они очень радовались и мне, и подаркам и даже в честь меня пригласили родню посмотреть на меня. «Он крупный автомеханик», — говорит папа всем. А мне стыдно признаться, что уже больше месяца мои руки не касались мотора и я только ухаживаю за старухой еврейкой, меняю масло и отлаживаю тормоза.
Своих блужданий по городу я не прекращаю, иногда встаю в шесть утра и выхожу на улицу, иногда нежусь в кровати до двенадцати. Стал заходить в кафе, заказываю себе пиво, закуриваю сигарету, слушаю, о чем говорят вокруг, и все больше взрослею.
Иногда я чувствую себя настолько взрослым, что по ошибке могу зайти поздно ночью в сомнительный бар, сажусь рядом с накрашенной женщиной и вежливо улыбаюсь ей, пока официант с ублюдочным лицом не выгонит меня:
— Ну-ка, дуй отсюда, мальчишка, можешь привести сюда свою сестру или мать, если она еще в пригодном состоянии.
Вот подонки…
Есть люди, которые меня притягивают. Арабы с территорий, настоящие палестинцы, отупевшие рабочие, которые бродят по городу какие-то затюканные. Ничего не понимают и не ориентируются. И я помогаю им. Показываю дорогу, перевожу на другую сторону, и они очень удивляются, узнав, что я тоже араб. Они рассказывают мне по пути, переходя улицу или садясь в автобус, о своих делах, о том, как все дорого, говорят что-нибудь о великой палестинской проблеме. Иногда какая-нибудь девушка улыбнется мне, что-нибудь скажет, а я думаю — пришло время влюбиться в кого-нибудь другого, внимательно смотрю вокруг — ищу.
Старуха становится все тише. Распространяет вокруг себя запах смерти. Целыми днями сидит в кресле не двигаясь, все больше и больше нуждается во мне. Я спросил ее:
— Что, у тебя нет никаких друзей или родственников?
Но она ничего не ответила. Наверно, вот-вот умрет. Мне надо бежать отсюда, а то скажут, что я виноват в ее смерти. Я все время хочу позвонить Адаму, но в последний момент не решаюсь.
Я уже не такой счастливый и не такой веселый. Меня забыли. Что со мной будет? Я брожу в толпе, уже не смотрю на витрины, только на людей, протискиваюсь между ними, изучаю их. Иногда увязываюсь за кем-нибудь, за каким-нибудь мужчиной, или молодым парнем, или за девушкой, слежу за ними некоторое время, изучаю. Иногда пристраиваюсь за кем-нибудь, кто сам идет за кем-то следом. Вот сегодня, например, иду за стройными ногами девушки и лишь через несколько минут сообразил, что это Дафи, которая за кем-то увязалась. Я стал догонять ее и у светофора, только она собралась переходить улицу, слегка коснулся ее. Дикая радость охватила меня. Она сначала даже не почувствовала моего прикосновения. Стоит и ждет зеленого света. Потом испугалась, точно я разбудил ее. Она немного выросла, очень похудела, немножко подурнела, лицо бледное, под глазами черные круги.
— Наим, — она крепко схватила меня за руку, — что ты здесь делаешь?
Мне было неловко сказать, что я просто так, без дела шатаюсь по улицам.
— Иду тут к одному…
— К кому?
— К другу…
— У тебя уже есть здесь друзья?
— Есть…
Зажегся зеленый свет, но она не торопится переходить, поток людей отталкивает нас в сторону.
Вдруг не о чем нам разговаривать, мы оба растерялись, словно и не ездили вместе по ночам, не были друзьями. Зажегся красный свет.
— Ты все время живешь у старухи?
— Твой отец просил меня…
— Влюбились друг в друга…
Смеется надо мной, какая-то неприветливая, глаза ее бегают по моему лицу с каким-то отчужденным выражением. Вокруг нас теснятся люди, ждут, когда погаснет красный свет. Она кажется далекой, гордой. Сердце мое разбито.
Вот снова зажегся зеленый, но она не двигается. Люди с силой отталкивают нас к поручням. Как дикари. Она хмуро рассматривает меня.
— Ты очень изменился.
И не сказала, стал хуже или лучше. Неприветливая, не смеется. Серьезная.
Я закуриваю сигарету, хочу сказать ей многое, но не знаю, с чего начать. Да и стоим мы на неудобном месте, напротив светофора, нас все время толкают. Я не хотел спугнуть ее, еще подумает, что я навязываюсь, а то пригласил бы ее в кафе выпить что-нибудь, посидеть спокойно и поговорить.
Она прижата к поручням, грустная и бледная. Любовь проснулась во мне со страшной силой. Только бы она не ушла.
— И все время ты учишься, — улыбнулся я.
— А что мне еще делать, — отвечает она сердито, словно я обидел ее, — я не могу бродить свободно, как ты, без забот… про тебя забыли, тебе повезло…
Говорит так горько, ее слова бьют меня наотмашь. Что я сделал ей? В чем я виноват? Отчаяние охватило меня.
Около перехода остановилось такси, она схватила меня за руку.
— Сядем, я отвезу тебя к твоему другу.
И, не спрашивая меня, будто я маленький, открывает дверцу такси, толкает меня внутрь, и мне надо срочно придумать этого друга, начинаю нечленораздельно бормотать что-то, объясняю шоферу, куда ехать; никогда в жизни не ездил я в такси. Наконец прошу его остановиться у одного из домов, выхожу, хочу сказать ей что-то нужное, она тоже, я вижу это, хочет сказать мне что-то. Жалеет, что была неприветлива со мной, не хочет расставаться, но такси трогается, ему нельзя здесь стоять, и она хватается за висящую сбоку петлю и кивает мне головой на прощанье. Я остаюсь на тротуаре, совершенно убит. Снова я потерял ее.

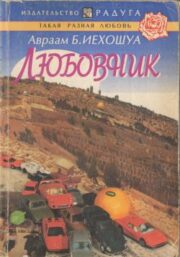
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.