Адам
Я ужасно обрадовался. Рассмеялся. Я тут изощряюсь, чтобы проникнуть посреди ночи в квартиру, а она, оказывается, здесь — прямая, маленькая старушка, вполне здоровая. Живая бабушка, восставшая из мертвых. И лицо, которое было когда-то непроницаемым и по которому стекала каша, теперь смотрело на меня с оживлением и любопытством. Она вновь обрела память, собрала ее до последней крошечки.
Мне захотелось обнять ее…
И самое замечательное, что она вовсе не казалась испуганной, не пыталась кричать или звать на помощь, наоборот, была совершенно спокойна, словно ждала этого ночного посещения. Смотрит на меня доверчиво, даже протягивает мне свою маленькую сухую руку, которую я крепко схватил обеими руками.
— Я слышала, что господин — мой родственник, и хотела бы узнать его имя.
И быстро так подмигивает мне.
Я удивился. Значит, ей рассказали о моем посещении больницы. Я все еще держу ее руку в своей. Что я мог сказать ей — что вот уже несколько месяцев ищу любовника своей жены?
Первым делом я отослал Наима, у которого еще не прошел страх и который ничего не понимал, на кухню. Старуха проводила его и дала несколько конфет. Потом я пошел за ней в спальню, она сняла вещи с одного из стульев и усадила меня, а сама взобралась на свою кровать. В спальне было темно, лампочка перегорела, и только в прихожей мерцал слабый свет. И вот сижу я против нее в темноте, смотрю на ее силуэт, напоминающий гигантский шарик пинг-понга, и слышу ее голос:
— Рассказывайте…
И я начал рассказывать ей все, что знал. С того момента, как маленький «моррис» заехал в мой гараж, и до утра второго дня войны. А далее о том, как я искал его, и об армейских учреждениях, которые ничего о нем не знают. И о нем — как он выглядел, как одевался, что говорил, чем интересовался. А она слушала молча, я даже подумал, не уснула ли она, встал и подошел к ней. Она беззвучно плакала, в отчаянии вцепившись в свои волосы, убивается, боится, что он погиб.
Мои глаза стали постепенно привыкать к темноте, и я увидел, что вокруг лежат его вещи, его одежда — брюки и рубашка, открытый чемодан, иллюстрированные журналы, сигареты, которые он обычно курил; все осталось в таком виде, в каком он оставил дом, уходя. И снова я вспомнил его с необычайной ясностью.
Я сказал ей:
— Не может быть, чтобы его убили.
— Так он чего-то боится и прячется. Надо искать его. Лучше всего по ночам.
— По ночам?
И тогда она стала рассказывать мне о нем. Как она растила его, после того как мать погибла, а отец оставил его. Он был странным и одиноким ребенком, плохо спал по ночам. Какое-то ночное создание. Вспоминает имена его родственников со стороны отца, дядю, живущего в Димоне, другого дядю — из Иерусалима, одного или двух друзей, с которыми он дружил много лет назад. Было уже почти пять утра, голова моя шла кругом от всех этих рассказов, но все-таки брешь была пробита.
Телефон ее отключили, и я обещал уладить это дело. Дал ей номер своего телефона, и мы договорились о следующей встрече.
Дождь уже перестал, небо прояснилось. Надо уходить. Наим дремал на кухне. Я разбудил его, мы попрощались со старухой и поднялись на Кармель. Улицы были мокрые и безлюдные. Первые признаки рассвета.
Дома тишина. Ася и Дафи крепко спят. Я отвел Наима в рабочую комнату и зашел в спальню. Света не зажигаю, совсем не чувствую усталости, смотрю на спящую Асю, утренний свет падает на ее лицо. Я слегка прикоснулся к ней. Ей снова снится что-то. Заметно, как двигаются ее глаза под закрытыми веками. До чего же странно знать, что именно в этот момент она видит сон. Он, наверно, заставлял ее страдать, потому что ее лицо исказилось. Моя стареющая жена, погруженная в свои сновидения. Я осторожно нагнулся над ней, почти встал на колени, нежно трясу ее. Но она не хотела просыпаться, как-то странно, трогательно так, почти с отчаянием, ухватилась за подушку, плачет. Я, улыбаясь, погладил ее:
— Ася, вставай, есть новости. Невероятно, но бабушка, эта старуха, восстала из мертвых…
Наим
И они вошли в одну из комнат, очень обрадованные встречей, а меня засунули на кухню, между помидорами и баклажанами, ждать их. Бабка дала мне несколько старых, слипшихся конфет, которые остались, наверно, с тех времен, когда она еще не потеряла память, и я сидел там, пока они не кончили болтать. Сижу на стуле, сосу сладкие конфеты и почти сплю. Часа через два, наверно, Адам пришел за мной, и мы поехали по пустынным улицам обратно к его дому, а небо было уже совсем ясным, кончился у него весь дождевой запас. Все вылилось на меня.
В доме было темно, и он уложил меня обратно в кровать, а сам пошел в свою спальню, начал разговаривать там с проснувшейся женой. Они говорили о чем-то очень взволнованно, но у меня не было сил прислушиваться, я сразу же заснул. Спал я очень долго. Я и правда очень устал и мог спать и спать без конца. До чего приятно мне было в этой красивой комнате со множеством книг, на мягкой кровати, прямо в самой гуще евреев.
Наверно, уже кончалось утро, когда я начал просыпаться, нежусь себе тихо в кровати. Раз или два приоткрылась дверь, и милая девчоночья головка просовывалась поглядеть на меня. А я все спал. Зазвонил телефон, громко заговорило радио. Девчонка все время крутилась по дому. Только ее шаги и были слышны, и снова она заглянула в комнату, наверно, не могла дождаться, когда я встану, но мне не хотелось. Ночью я поработал как настоящий специалист, теперь можно и поспать немного. Из окна видно голубое небо, слышатся детские голоса. По радио продолжают болтать, даже в субботу им не надоедает. Девчонка остановилась у двери и тихонечко постучала. Я быстро закрыл глаза, а она неслышно вошла, подошла к книжному шкафу, притворилась, что ищет какую-то книгу, нарочно шумит, чтобы разбудить меня. На ней были брюки и свитер в обтяжку, и я заметил под ним маленькие бугорки. Вчера я был уверен, что у нее еще нет там ничего, и вот как будто выросли за ночь.
Увидев, что я не двигаюсь, она подошла и дотронулась своей горячей рукой до моего лица. И мне очень понравилось, что она дотронулась до меня, а не только говорила со мной. Я решил все-таки открыть глаза, а то еще подумает, что я умер.
Она тут же зачастила своим хрипловатым голосом:
— Тебе пора вставать. Папа с мамой уехали утром. Уже одиннадцать. Я приготовлю тебе завтрак. Какие яйца ты любишь?
Вся зарделась, серьезная такая.
— Все равно…
— И мне все равно.
— Сделай, что хочешь.
— Но мне все равно… скажи ты…
— Сделай то же, что и себе, — улыбнулся я.
— Я уже поела… хочешь яичницу-болтунью? Я не знал, что это такое, яичница-болтунья, но почему бы не попробовать? И тут я сказал с каким-то нахальством, сам не знаю, откуда оно взялось у меня:
— Ладно, только, если можно, без сахара.
— Без сахара???
— Вчера, — пробурчал я невнятно, — было немного сахара в котлетах.
А она поняла вдруг и разразилась диким смехом. Очень ей это понравилось.
Я тоже слегка улыбнулся. Она вышла. Я быстро оделся, убрал постель, пошел в ванную, умыл лицо и почистил зубы, причесался их гребенкой и потом помыл раковину. Пошел на кухню, там на столе было полно еды. Наверно, вытащила все, что нашлось в холодильнике, и поставила на стол. Может быть, первый раз в жизни она готовит завтрак гостю. Надела фартук и начала очень энергично жарить что-то на огне, а потом принесла мне какую-то болтушку из яйца, еще и слегка подгоревшую, дала подгоревший хлеб и кашу. Села напротив, смотрит во все глаза, как я ем, все время предлагает мне еще что-нибудь. Сыр, селедку, шоколад. Она решила, что я должен уничтожить всю еду, которая есть в доме. Сама намазывает мне хлеб, все время меняет тарелки, точно она моя мама или жена; играет какую-то роль, и ей это нравится.
А я ем с закрытым ртом, жую медленно. Иногда отказываюсь, а иногда соглашаюсь. Она следит за мной, словно я ребенок или щенок, которого надо накормить. Лишь иногда я осмеливаюсь поднять на нее глаза и вижу, какая она свежая, не такая, как вчера, более решительная, совсем не сонная. Волосы собраны в пучок, черные глаза блестят. Она не дотрагивается до еды.
— Ты не ешь? — спрашиваю я.
— Нет, я и так толстая.
— Ты толстая?
— Немножко…
— А по-моему, нет…
И снова она разражается смехом. Просто страшно, какое дикое ржание вырывается у нее изо рта. Прямо звериное рычание. Что-то во мне смешит ее. Вот она замолкает. Становится серьезной. И снова — сначала чуть улыбается, а потом без предупреждения и без всякой причины разражается громким хохотом.
А я ем и ем, и так, не переставая есть, все больше и больше влюбляюсь в нее, влюбляюсь окончательно и бесповоротно, всем сердцем, готов целовать ее белую ступню, которая все время раскачивается передо мной.
— Ну как, не слишком сладко было?
— Нет… все нормально… — Я весь покрылся краской.
— Но кофе ты пьешь с сахаром?
— Кофе — да.
И она идет приготовить мне кофе.
День совершенно ясный, словно зима уже кончилась. По радио передают музыку, пока новые болтуны не займут место тех, что пошли отдохнуть. А я уже влюблен по уши. Мне даже не надо смотреть на нее, она у меня в сердце. Пью кофе. Какая-то безумная жизнь. Словно это и не я вовсе. А она все смотрит и смотрит на меня, точно не видела никогда, как люди едят.
— Вы нас очень ненавидите? — вдруг слышу я ее голос, у меня чуть стакан из рук не выпал — так она меня напугала.
— Кого?
Хотя я и знал, что она имеет в виду, но не ожидал, что именно она начнет говорить о политике.
— Нас… израильтян…

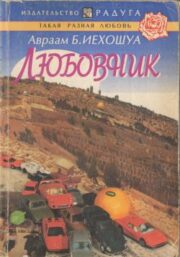
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.