Адам
Во время споров на наших встречах в канун субботы, пустых разговоров над миской арахиса и расплывшейся тхины,[17] когда начинались эти политические рассуждения об арабах, об арабском характере, ментальности и прочем, на меня находила какая-то тоска, я начинал ворчать, в последнее время я стал нетерпимым во время споров:
— Что вы, в сущности, знаете об арабах? У меня работают, наверно, тридцать арабов, и, поверьте, с каждым днем я все меньше в них разбираюсь.
— Но это другие арабы.
— Что значит — другие, чем они отличаются? — взвинчиваюсь я, встаю с места. Сам не знаю, на что сержусь. Ася краснеет, напряженно следит за мной.
— Они зависят от тебя… боятся тебя…
— С чего это вдруг? О чем вы говорите?.. Но как объяснить? Мысли у меня путаются.
Я снова сажусь, молчу. Вот, например, Хамид…
Он, наверно, мой ровесник, но тело у него очень тонкое, как у юноши. Только лицо морщинистое. Он мой первый рабочий, работает у меня почти двадцать лет. Молчаливый, гордый, этакий одинокий волк. Старается не смотреть в глаза, но если тебе удается поймать его взгляд, то видишь, какие они темные, как застывшая в стакане кофейная гуща.
О чем он думает? Что он думает обо мне, например? Трудно вытянуть из него слово, а если и говорит, то только о деле — о моторах, машинах. Когда я попытался как-то перевести беседу на другие темы, он замял разговор. Его преданность необычайна, а может быть, это вовсе и не преданность. Он работает уже много лет и не пропустил ни одного дня, и не потому, что боится увольнения. Он постоянный работник и обладает всеми правами. Первого числа каждого месяца Эрлих выдает ему наличными четыре тысячи лир, которые Хамид тотчас же, не считая, молча сует в карман рубашки. На что он тратит эти деньги, неизвестно, всегда он ходит в потрепанной одежде и в стоптанных ботинках.
Механик высшего класса. Последние годы он работает в своей «мастерской», которую отгородил себе в одном из углов гаража. Это его царство. Он восстанавливает старые моторы. Это сложная, требующая фантазии работа. У него золотые руки и бездна терпения. Он разбирает старые, совершенно безнадежные моторы, сверлит, обтачивает новые детали и вдыхает в них жизнь. Работает без отдыха, возле него нет радио, без пустых бесед и разговоров с другими рабочими, без анекдотов, не шутит с клиентами. Обеденный перерыв он кончает первым, но когда заканчивается рабочий день, он сейчас же прекращает работу, никогда не соглашается на сверхурочные часы, моет руки, берет свой пустой нейлоновый мешочек и исчезает.
Два-три года назад он вдруг стал религиозным. Принес из дома маленький грязный коврик и дважды в день прекращает работу на несколько минут, снимает ботинки, расстилает перед собой коврик, становится на колени и начинает отбивать поклоны в сторону юга, прямо напротив токарного станка и стены, на которой висят самые современные инструменты, пламенно что-то восклицает, обращаясь к самому себе, к пророку, черт знает к кому. Потом влезает в ботинки и возвращается к работе. Какая-то непонятная религиозность. Даже другие арабы, работающие в гараже, смотрят на него с какой-то хмурой миной.
Ведь, несмотря на свое обособленное положение, он у них вроде как руководитель, хотя и не старается поддерживать с ними связь. Одиноко бродит между ними, не разговаривает. Но когда мне требуется новый рабочий, он приводит ко мне через два-три дня мальчика или подростка, словно у него в распоряжении целый полк. Потом я понял, что большинство арабов в гараже, в сущности, его родственники, двоюродные братья или племянники, прямые или косвенные.
Как-то я спросил его:
— Сколько у тебя двоюродных братьев?
— Много, ни разу не считал.
— А сколько работает здесь?
— Сколько? — Он попытался увильнуть от прямого ответа. — Есть несколько.
Потом он указал мне по крайней мере десяток, если не считать двух его сыновей. И очень удивил меня, потому что я в жизни не предполагал, что это его сыновья. Не видно было, чтобы он выказывал какое-нибудь особое к ним расположение.
— Сколько у тебя детей?
— А что?
— Так просто… интересно.
— Четырнадцать…
— Сколько жен?
— Две…
Он просто страдает от этих вопросов, нервно играет отверткой, поворачивается ко мне спиной, мечтает поскорей отделаться и вернуться к работе.
К чести его надо сказать, что, приведя ко мне новых рабочих, он больше не вмешивался в их судьбу и, если я был вынужден выгнать кого-нибудь из них, не говорил ни слова, а через несколько дней приводил еще какого-нибудь двоюродного брата или другого родственника из своего неиссякаемого запаса.
В первый день войны он, разумеется, прибыл на работу. Но с ним приехали лишь немногие, боялись покинуть деревню, не знали, как все обернется. Я сейчас же набросился на него:
— Где остальные?
Он молчит, не смотрит на меня, не понимает вообще, чего я хочу от него. Но я не отстаю:
— Ты, Хамид, скажи всем, чтобы явились на работу. Так не годится. Наша война совсем не означает, что у вас отпуск. Здесь стоят машины, которые надо отремонтировать, люди придут с фронта и захотят получить их исправными. Ты слышишь?
Но он ничего не отвечает, смотрит враждебно, руки в карманах, словно не ему говорят.
— Вы, в сущности, должны были воевать вместе с нами, нужно было и вас мобилизовать. Кто не придет завтра, не получит здесь больше работу, так и скажи своим родственникам.
Он пожал плечами, как будто это совсем его не трогает.
Но я весь день не давал ему возиться с моторами, занял его на черных работах — подтягивать тормоза, латать проколы, разбирать аккумуляторы. Он ничего не сказал, но видно было, что это сильно действует ему на нервы. Назавтра пришли все арабы, и он вернулся в свою мастерскую. За все время войны у меня не отсутствовал ни один рабочий. Хамид также позаботился привести новых взамен ушедших в армию евреев.
Но дальше этого я не иду ни с ним, ни с другими, я никогда не ездил в их деревни, не бывал у них в гостях, как другие хозяева гаражей с нами по соседству. Это всегда кончается плохо — в конце концов садятся тебе на голову. И вообще в последние годы я стал как можно меньше вмешиваться в дела. Я увидел, что все и без меня идет с большим успехом. Уже даже не знаю, как многих из них зовут, тем более что они все время меняются. Гараж в последние годы все больше наполняется молодыми ребятами, иногда прямо детьми. Арабы приводят с собой маленьких детей — братьев, двоюродных братьев или просто голытьбу из деревень. Тихие и послушные, эти парнишки у них на подхвате — таскают ящики с инструментами, подносят ключи, стирают пятна, оставленные на дверцах грязными руками, открывают крышку мотора, нажимают на тормоза, ищут по радио нужную станцию. Арабы любят таких маленьких личных слуг, на которых можно прикрикнуть, которым можно приказать. Это придает им уверенности и веса в собственных глазах. Чем больше разрастался гараж, тем больше мальчишек крутилось в нем.
Как-то я спросил Эрлиха:
— Скажи, это за мой счет весь здешний детский сад?
Но он улыбнулся, махнул рукой:
— Не беспокойся, за них не надо платить налог, ты только зарабатываешь на этом…
Некоторые из подростков занимались уборкой, гаража, подметали, мыли пол. Гараж стал чистым и приобрел приличный вид. Однажды стою я во дворе задумавшись, и вдруг кто-то сует мне между ног метлу и говорит сердито:
— Может, подвинешься?
Смотрю и вижу — какой-то маленький араб с большущей метлой уставился на меня нахально своими умными глазенками.
Что-то заставило мое сердце сжаться. Я вдруг вспомнил Игала, не знаю почему, что-то во взгляде черных глаз…
— Кто привел тебя сюда? — спрашиваю я его. Скорей всего, он не знает, что я хозяин гаража.
— Мой двоюродный брат — Хамид…
Ну конечно, Хамид. Каждый второй человек тут — двоюродный брат Хамида. Скоро окажется, что и я его родственник. Ох уж эти арабы. И не жаль им детей. Не лучше ли этой малышне учиться вместо того, чтобы подметать здесь пол и собирать винты.
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать и три месяца…
— Не хотел больше учиться в школе?
Он покраснел, испугался, боялся, что я выгоню его. Стал что-то бормотать о своем отце, который не хотел… маленький врунишка.
И продолжал махать своей метлой, а во мне вдруг что-то дрогнуло, я протянул руку и мягко коснулся его кудрявой головы, пыльной после целого дня подметания. Маленький араб, мой рабочий, о чем он думает? Чем он занят? Откуда он пришел? Как ему живется? Никогда я не узнаю. Даже имя его, которое он только что сказал мне, я уже забыл.
Наим
В первые дни мне было очень интересно в этом большом гараже. Новые лица вокруг, приходят и уходят, самые разные евреи пригоняют свои машины, смеются и кричат. Несколько слесарей-евреев, ужасные пройдохи, местные арабы, вконец испорченные, со своими сомнительными анекдотами. Шум и гам. На всех стенах развешаны изображения девушек, почти совсем голых и ужасно красивых, прямо дух захватывает, евреек и неевреек, блондинок, черных, совсем негритянок и рыжих. Настоящие красотки. Невозможно поверить, что такие бывают. Лежат с закрытыми глазами на новых машинах, открывают дверцы великолепных лимузинов, кладут свои груди, зад, длинные ноги на моторы новых систем и всякие другие автомобильные новинки. На заду одной, ужасно симпатичной, изобразили целый календарь, хватило места. Я совсем ополоумел от этих картинок. Боюсь смотреть и смотрю не отрываясь. Глаза просто тянутся сами, все время возбуждаюсь. И «малютка» постоянно болел у меня от напряжения. В первые недели я бродил среди рабочих и машин, в этом шуме и грязи сам не свой. Несколько раз трусы мои становились влажными. Ночью в кровати страсти одолевали меня, я вспоминал и не переставал думать о них. Сколько семени изливалось из меня! Я перескакиваю с одной на другую, не хочу пропустить ни одной. Целую и горю, успокаиваюсь и снова возбуждаюсь. Утром вставал изможденный и бледный, отец и мать стали уже беспокоиться. Пока наконец я не стал мало-помалу привыкать к этим картинкам. Через месяц уже смотрел на них так же равнодушно, как на портреты двух президентов, покойного и живого, и старушки премьер-министерши, которые тоже висели рядом с изображениями девиц. Я перестал реагировать на них.

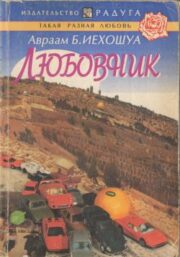
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.