Дафи
Всегда там полумрак, потому что квартира — на первом этаже, воткнутом прямо в склон горы, но еще — из-за занавесок, которые застят свет, и слабых лампочек, потому что мама у нее экономная, но вот почему она не проветривает комнаты — ведь воздух ей ничего не стоит… Тяжелый запах духов, духов каких-то нечистых. Когда мы с Оснат приходим туда, у нас портится настроение уже на лестнице, поэтому мы почти не ходим к Тали, только если она больна.
На ней всегда один и тот же старый халат с оторванной пуговицей, отчего полы расходятся, и в прорехе видны ее громадные груди. Большая опустившаяся женщина со светлыми тусклыми волосами, распущенными по плечам. Может быть, когда-то она и была привлекательной, но сейчас такая зануда, ужасно действует на нервы, открывает дверь и смотрит на нас тяжелым взглядом. «А, наконец-то вспомнили, что у вас есть подруга» — даже если Тали заболела только сегодня утром.
Мы заходим к Тали в комнату, она лежит такая красивая, раскрасневшаяся от высокой температуры, садимся возле кровати и ждем, когда ее мама выйдет, и тогда начинаем болтать с ней, рассказывать о том, что случилось в школе, отдаем ей контрольную, которую вернули сегодня, и утешаем ее, что полкласса получило двойки, а Тали, она не очень-то говорлива, только улыбается своей лунатической улыбкой, берет контрольную и кладет под подушку. Но проходит немного времени, и в комнату является ее мама, пододвигает кресло к двери, две его ножки в комнате, а две другие за порогом, садится с книгой на венгерском в руках и с папиросой в зубах, исподтишка бросает на нас недовольные взгляды, короче говоря, присоединяется, как будто бы мы пришли навестить именно ее.
Оснат сказала мне, что кто-то говорил ей, будто мама Тали только наполовину еврейка и совсем не хотела ехать в Израиль, ее заставил отец Тали, а потом сам сбежал. Мы ни словом не обмолвились об этом Тали, может быть, ей и невдомек, что она на одну четверть нееврейка, зато мне многое стало понятно, и в первую очередь — откуда эта ужасная желчность, исходящая от ее матери.
Сидит с нами молча, делает вид, что читает книгу, окружена облаком дыма, надменная такая. Осматривает нас, словно мы какой-то товар, не улыбается, даже когда мы рассказываем анекдоты. Она может вдруг прервать Оснат посреди предложения каким-нибудь странным вопросом:
— Скажи, Оснат, сколько твой папа зарабатывает?
Оснат ошеломлена.
— Я не знаю.
— Приблизительно?
— Не имею представления.
— Три тысячи в месяц?
— Не знаю.
— Четыре тысячи?
— Не знаю! — почти кричит Оснат.
Но маму Тали трудно пронять.
— Так спроси его как-нибудь.
— Для чего?
— Чтобы знать.
— Хорошо.
Наступает тяжелое молчание, потом мы снова пытаемся вернуться к своей болтовне. И вдруг мама опять выступает:
— Так я скажу тебе. Там, в Технионе, каждый месяц дают им надбавку. Он приносит домой по крайней мере четыре тысячи чистыми.
— Чистыми от чего? — спрашивает Оснат со злостью.
— От налогов.
— А…
И снова наступает какое-то неловкое молчание. И какое ей, черт возьми, дело, сколько получает папа Оснат!
— О папе Дафи, — она вдруг обращается ко мне с ехидной улыбкой, удар с фланга, — я не спрашиваю, потому что ты действительно не можешь знать, он и сам не знает. Еще немного, и со своим гаражом будет миллионером, хотя твоя мама и старается это скрыть.
Теперь ошеломлена я, не могу произнести ни звука. Вот ведьма, сидит тут в кресле со своими оголенными ногами, гладкими, как маргарин. Хищные ногти покрыты красным блестящим лаком. Когда я вижу ее в этой позе — сейчас же определяю ее нееврейскую половину, нижнюю половину.
Удивительно, что Тали никогда не прерывает мать, когда та начинает говорить ерунду, не обращает на нее внимания, сидит молча в кровати, уставившись в окно; ее совсем не трогает, что мать ее так действует нам на нервы.
Мы начинаем нащупывать другую тему, что-то рассказываем Тали, и вдруг снова удар из угла:
— Скажите, девочки, вы тоже каждую неделю требуете новую одежду, как Тали?
Мы смотрим на Тали, но ее лицо совершенно спокойно, словно речь идет вовсе не о ней.
— Скажите, скажите… Я получаю только тысячу двести в месяц и за квартиру плачу триста. Скажите ей, чтобы не просила каждую неделю новое платье. Достаточно раз в две недели. Может быть, вы сумеете на нее повлиять?
У нас появляется желание немедленно унести ноги, последовав примеру ее мужа, только жаль бедняжку Тали. Оснат начинает протирать очки, руки ее дрожат, я-то знаю, ей ничего не стоит впасть в нервозность, но она крепится, я тоже молчу. Мы знаем, что на любой ответ последует ехидная реплика. Мы стараемся не обращать на нее внимания, возвращаемся к нашей болтовне, говорим отрывистыми фразами, тихим голосом, украдкой косимся на мать, сидящую на пороге, лицо у нее жесткое, светлые волосы разбросаны по плечам. «А может быть, — думаю я, — нееврейской бывает верхняя половина». Проходит четверть часа, мы почти забываем о ней, и вдруг:
— Как по-вашему, стоит ли держать Тали в школе?
— А почему нет? — вскидываемся мы.
— Но ведь она очень плохо учится.
— Неправда, — протестуем мы и называем ей несколько учеников из нашего класса, которые учатся еще хуже.
Но на нее это не производит никакого впечатления.
— А что, она получит там профессию? Может, лучше отправить ее работать…
Но мы боимся потерять Тали, начинаем объяснять, как важно закончить школу, пригодится для будущего… Она смотрит на нас мрачно, изучающе, но слушает внимательно, хотя и стоит на своем.
— Еще через два-три года Тали может выйти замуж, Тали очень красивая, у нее броская внешность, вам, девочки, до нее далеко… ее отхватят сразу же… так зачем ей оставаться в школе?
Меня это начинает забавлять. Но Оснат бледнеет, встает с места, хочет уйти; каждый раз, когда речь заходит о внешности, она ужасно нервничает.
— Хотя, может быть, ты и права, Оснат, — со своим венгерским акцентом продолжает мама Тали, методично доводя нас до белого каления, — аттестат никогда не помешает, у меня нет никаких аттестатов, и я дорого заплатила за это, думала, что достаточно любви…
И лицо ее искажается, словно ей хочется выругаться или заплакать. Она встает и выходит из комнаты.
Мы смотрим на Тали, чувствуя себя совершенно опустошенными, а ей хоть бы что. Ненормальная, улыбается про себя своей легкой улыбкой, о чем-то думает, теребит кончик одеяла, на все ей наплевать. Оснат уже собирается уходить, но Тали своим нежным голосом говорит: «Погодите минутку, так что же задано?» И мы снова садимся, ведь, собственно, затем мы и пришли. Внезапно опять появляется ее мама, на этот раз с пирожками и кофе, усаживается в свое кресло, курит сигарету за сигаретой, мы ждем следующего удара, но она молчит. В комнате темнеет. В конце концов мы расстаемся с Тали, ее мама провожает нас молча до двери, у порога с силой хватает нас за руки и шепчет со страдальческим выражением лица:
— А что она рассказывает вам? Со мной она ничем не делится… Что говорит?
И пока мы ищем слова, чтобы ответить ей, она крепко обнимает нас.
— Не оставляйте Тали, девочки. И выпускает нас на улицу.
Мы поражены, не можем произнести ни звука, молча идем по улице, останавливаемся у дома Оснат, не находим слов, но не можем расстаться так просто, словно заразились от Тали молчаливостью. Под конец у Оснат вырывается:
— Если бы мои родители разошлись, я бы покончила с собой.
— Я тоже, — сейчас же подхватываю я, а у самой сердце сжимается. Она может позволить себе говорить так, потому что у них там любовь, объятия, и поцелуи, и «май дарлинг» каждый день после обеда. А у меня дома — молчание. Я поднимаю голову и встречаю ее пристальный, словно изучающий взгляд. — Чао, — бросаю я и тороплюсь уйти.
Адам
Может быть, расстаться? Начало лета. Страшная жара. Я просыпаюсь около полуночи весь в поту. Где Ася? Я встаю. В комнате Дафи горит свет, но Дафи спит, на ее лице книга. Я убираю книгу, гашу свет, но в доме есть еще освещенное место, я вхожу в рабочую комнату. Ася, маленькая, щупленькая, сидит за большим столом с еще влажными после душа волосами, закутана в изношенный банный халат (его уже пора выкинуть), ее маленькие босые ноги болтаются в воздухе, в комнате гуляют огромные тени, свет лампы тускло освещает лежащие перед ней бумагу и книжку. Мое внезапное появление ее как будто вспугнуло. Неужели она до сих пор боится меня?
Во время летних каникул она решила поработать над руководством по преподаванию истории Французской революции, собрать новые источники с разъяснениями для учителей. Нанесла из разных библиотек книжек и толстых тяжелых словарей с толкованием старых французских слов.
Я пристраиваюсь рядом с ней на кровать, улыбаюсь ей, она улыбается мне в ответ, смотрит на меня, а потом возвращается к своим книгам. Ей совсем не мешает, что я сижу сбоку и наблюдаю за ней, она так уверена в наших отношениях, что не чувствует необходимости отложить ручку и обменяться со мной парой слов. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто захочет забрать ее у меня?
Уже давно я не прикасался к ней. Она сносит это молча. Я рассматриваю ее, прищурив глаза. Через расстегнутый халат видны бледные груди. Если я сейчас встану и обниму ее, будет ли она сопротивляться? Может быть, обрадуется, но возможно, и она потеряла желание.
— Ты еще видишь сны?
Она откладывает ручку, удивленная.
— Иногда.
Молчание. Пусть бы она рассказала мне свой сон, как в первые годы. Вот уже много лет не рассказывает она мне свои сны. Вид у нее озабоченный, она серьезно и испытующе смотрит на меня, потом снова берется за ручку, читает то, что написала, и зачеркивает.

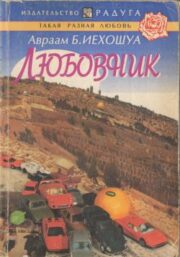
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.