Когда мне было десять лет, я впервые услышала о брате, мне сказали, что он умер от болезни; лишь год назад папа открыл мне правду и даже показал, где его задавила машина. Как это они ничего не оставили от него в доме, как удалось им скрывать это в течение многих лет? В последнее время я все больше думаю о нем, ведь вся жизнь могла быть иной. Меня охватывает тоска по этому брату. Я веду с ним воображаемые беседы, иногда представляю его себе девятнадцатилетним парнем, а иногда — пятилетним мальчиком. Иногда помогаю ему раздеться, готовлю ему ужин, купаю его, а иногда он входит в мою комнату поздно вечером, чтобы побеседовать со мной, улыбчивый высокий парень.
Я встаю и решительно иду на кухню. Как такая маленькая семья ухитряется испачкать так много посуды? Две кастрюли и подгоревшую сковородку я сразу же отодвигаю в сторону. Мое обязательство на них не распространяется. Всю остальную посуду, не дотрагиваясь до нее, щедро поливаю жидким мылом и пускаю тоненькую струйку воды. Грязь размокнет и отстанет сама собой. Хорошенькое занятие для предсубботнего вечера. Я выхожу из кухни, гашу свет, сажусь за большой стол, прислушиваюсь к шуму воды, может быть, посуда хоть немного отмоется сама собой. Смотрю на пламя субботних свечей. Это я заставила их в этом году зажигать свечи в канун субботы. Сами они не удосуживаются, потому что оба не верят в Бога, каждый по-своему.
Жара все усиливается. Я снимаю одежду и остаюсь в одних трусиках, сижу в темноте и смотрю на огонь как загипнотизированная. Я могу сидеть так часами и смотреть, как тают свечи, стараясь угадать, какая из них погаснет последней. Издалека слышится сирена «скорой помощи». Длинные, тонкие насекомые с нежными крыльями гуляют по стенам, по столу. Я начинаю дремать, сквозь сомкнутые веки вижу колеблющееся пламя, но вдруг прикосновение чего-то мокрого к ступне заставляет меня встрепенуться. Вода? Откуда вдруг взялась вода? Господи, весь пол залит. Кран!
Не хотела мыть посуду, так сейчас придется тебе мыть и пол. Время близится к полуночи. Они еще не приехали. Я бегу за тряпкой, начинаю собирать воду, ползаю на коленках, выжимаю, гоняюсь за ручьями, которые забрались даже под шкаф и намочили задвинутый за него маленький чемодан. Мою пол, собираю воду, выжимаю, с меня льет пот. Иду на кухню и перемываю эту проклятую посуду, чищу кастрюли и сковородку, надраиваю их до блеска. Работаю с остервенением. Мою, вытираю, ставлю на полки. А потом иду под душ, потом сижу в халате и роюсь в старом чемодане, который никогда раньше не видела. Кучка покрывшейся плесенью детской одежды — моей или его? Неизвестно. Не могли выбросить все это? Я засовываю вещи обратно в чемодан, ставлю его на место. До смерти хочу спать, но жду их. Куда они запропастились? Голоса на улице стали тише, музыка умолкла, прохладный ветер проникает в комнату, вытесняет духоту.
Я помню только, что они вдруг очутились возле меня. Я не слышала, как они подъехали, как открыли дверь, папа поднимает меня, поддерживает, доводит до кровати. Во сне я слышу, как мама говорит: «С ума сошла, весь дом вымыла», а папа вдруг засмеялся: «Бедная Дафи, приняла мою выволочку всерьез».
Адам
Действительно, как описать ее? Начать с маленьких и гладких ступней, удивительно хорошо сохранившихся, с высоким подъемом, милым, чистым… Стопа избалованной девочки, а не солидной женщины, лицо которой покрыто морщинами и которая будто еще и намеренно старается постареть как можно раньше.
Если бы кто-нибудь с искренним участием и интересом, по-дружески положил мне руку на плечо — скажем, в один из предсубботних вечеров, на посиделках у наших старых друзей, у учителя из Асиной школы, или у кого-нибудь из бывших одноклассников, или у бывших наших соседей, с которыми мы сохранили связь… В компаниях, где мы бываем примерно раз в месяц, собираются в основном старые знакомые, и через некоторое время общая беседа затухает, тот, кто никому не давал раскрыть рта, тоже умолкает, занявшись своим куском торта, или отправляется в уборную, а серьезные разговоры о политике, или о бедах подрядчиков, или о поездке в Европу выдыхаются, гости обмениваются незначительными репликами, перешептываются. Женщины рассказывают о своих женских болезнях, мужчины встают, чтобы размяться, выходят на большую веранду, кто-то даже включает телевизор, а я на весь вечер прилип к своему креслу, роюсь в пустой вазочке из-под арахиса, перебираю шелуху, молчу, как обычно, думаю уже о том, чтобы двинуться домой; если бы кто-нибудь, хороший друг, друг юности, подошел ко мне, положил руку на плечо, мягко дотронулся до меня с сердечной улыбкой, с искренним интересом заговорил бы, тихо спросил бы, например: «Адам, ты всегда такой молчаливый, о чем ты думаешь все время?»
Я бы тут же выложил ему правду, почему нет? Я уже созрел для этого.
— Ты, конечно, удивишься, но я думаю о ней. Не могу думать ни о чем другом.
— О ком?
— О своей жене…
— О жене?.. Ну что же, почему бы нет. Иногда нам кажется, что ты погружен в свои дела, думаешь о чем-то далеком, а ты всего-навсего думаешь о ней.
— Я беспрерывно занят ею…
— Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего.
— Ведь вы вместе производите очень хорошее впечатление, такая прочная пара, в вас не чувствуется ни раздражения, ни напряженности. Мы немного удивились, когда она вышла за тебя замуж… Ведь она такая интеллектуальная, все время корпит над книгами, нам казалось странным, что именно ты из всех ребят… ты понимаешь? Извини… ты понимаешь?
— Понимаю, понимаю, продолжай…
Если бы кто-нибудь из друзей, из тех немногих, что у нас есть, один из трех-четырех, с которыми мы встречаемся постоянно, которые сопровождают нас в течение многих лет, подошел бы ко мне сердечно, с открытой душой даже в разгар болтовни — ведь и в небольшой комнате всегда можно найти место, чтобы поговорить по душам…
— Ты вдруг исчез, бросил школу посреди занятий, стал работать, прошло несколько лет, и вдруг вы вместе. Это было для нас сюрпризом.
— И для меня тоже…
— Ха-ха, а мы решили, что вы все время были тайно влюблены друг в друга.
— Я?..
— Ты, ты. Мы помним историю, которая произошла с ней. Но сейчас ваша связь кажется естественной. Поверь мне, если мы говорим о вас, то только хорошее, приятно видеть вас в нашей компании, несмотря на то что ты всегда сидишь и молчишь. Нет, не думай, что это мешает, наоборот, честное слово, не знаю, как это выразить, Адам…
— Спасибо, спасибо. Я понимаю.
— Так о чем же ты думаешь все время?
— О ней, я уже сказал тебе.
— Но что же ты думаешь о ней, если не секрет?..
— Вовсе нет, о ее ступне…
— Извини? Я не расслышал, ужасно шумно здесь… О чем?
— О ее маленьких ступнях.
— А что с ними?
— Нет, ничего особенного, ты, наверно, никогда их не замечал. Этот нежный, детский изгиб ноги, ступня избалованной девочки… Ася не совсем та, какой кажется.
Если бы кто-нибудь положил руку на мое плечо, отвел бы меня в сторону, заговорил со мной доверительно, с душевным участием, пусть даже с некоторой миной превосходства, пусть даже из простого любопытства, но глядя мне открыто и прямо в глаза и говоря со мной как истинный друг…
— Да, конечно… как можно знать. Прости меня. Ступни, ты сказал. Но кто может знать, кроме тебя, конечно… Прости… Она носит… прости меня… такие топорные туфли, на низком каблуке. И даже я, хотя и не очень-то в этом разбираюсь, удивляюсь… жена как-то говорила мне… и это платье… все какое-то небрежное… по-моему, она и косметикой не пользуется… В молодости она выглядела миленькой, не красавица, но вполне ничего, а вот надо же, так быстро постарела, то есть, упаси Боже, не постарела, а несколько опустилась, может быть, из-за несчастья, которое у вас случилось, я понимаю, но нельзя давать им стариться раньше времени, мы все в этом заинтересованы, мы должны заботиться друг о друге, быть предупредительны, впереди у нас еще долгая жизнь…
— Я знаю… мне жаль…
— Ох, Адам, прости меня. Но я говорю как друг. Ведь мы знакомы уже столько лет. Ты меня понимаешь?
— Все в порядке. Продолжай…
Если бы кто-нибудь подошел ко мне, положил руку на плечо, в час, близкий к полуночи, пусть бы даже он был навеселе, пускай под конец, почти в полночь, в час, когда гости поднимаются со своих мест вслед за молодой парой, которой нужно сменить приходящую няньку, а остальные начинают подумывать, не пора ли им тоже домой, и начинают слоняться по квартире, заходят в другие комнаты, взвешиваются в ванной, выходят на веранду, а хозяева бегают за гостями, уговаривают колеблющихся остаться, мчатся на кухню и приносят какую-то жирную горячую еду с куском хлеба — то, что осталось от предсубботней трапезы, или то, что было предназначено для завтрашнего обеда, — собирают снова своих гостей, суют им в руки тарелки, наливают красноватое острое варево, ставят пластинку с греческими песнями, и тогда начинаются полусонные беседы, а ко мне если и подходят, то лишь для того, чтобы выяснить цены на машины, или узнать мое мнение о новой модели, только что появившейся в продаже, или спросить, как следует подбирать шины… Стоят с тарелками и стаканами в руках и слушают с уважением, в этих делах я непререкаемый авторитет.
Некоторые из друзей числились в моих клиентах, хотя я никогда не приглашал их в свой гараж, даже когда он был еще совсем небольшим и я боролся за каждого клиента. Я не нуждался в них, это они нуждались во мне.
На первых порах только немногие могли приобрести себе автомобиль. Учителя начальной школы, мелкие служащие, студенты, бывшие мошавники[12] не могли позволить себе такую роскошь. Но время шло, и большинство наших друзей обзавелись машинами. Правда, подержанными. Перед покупкой они пригоняли их ко мне на осмотр, чтобы услышать мое мнение. Мне приходилось быть осторожным, не поддерживать в них иллюзий, а главное — не брать на себя ответственность. Иначе они зачастили бы ко мне через день, не могли бы обойтись без меня. Я старался держаться подальше от их автомобилей.

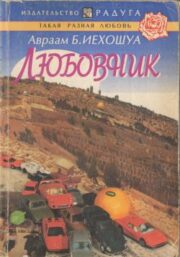
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.