Прошло немного времени, и она вышла ко мне, причесанная, в легком утреннем платье, со свежим лицом. Она подошла ко мне и сразу же произнесла серьезно и почти торжественно: «Ты снился мне». И рассказала мне сон, ясный, последовательный, логичный, почти невозможный сон. Сон, который можно было истолковать так, словно она прямо сказала мне: «Я готова выйти за тебя замуж».
Ася
Старый барак молодежного лагеря, только чуть побольше обычного, первые вечерние часы. Очевидно, идет подготовка к спектаклю. Несколько человек бродят в одежде из тряпья, в соломенных шляпах, в мантиях из одеял, подпоясанных веревкой. У кого-то загримировано лицо. Один из ребят пишет музыку для спектакля, девочки окружили его, а он сидит на полу, скрестив ноги, наклонившись над тетрадью, и быстро, быстро пишет слова. Они напевают ему что-то, а он пишет слова, только слова, но слова, в которых заключается уже и мелодия. Из своего угла, поверх голов девушек, я могу различить эти музыкальные слова, которые он записывает с необычайной скоростью. Но все ждут появления еще кого-то. Ведущего артиста? Режиссера? Кого-то важного, очень почитаемого, без которого спектакль не может состояться. И вот мы слышим, что прибыл поезд, короткая остановка — и состав продолжает свой путь. Мы спешим на площадь, чтобы встретить его.
И он действительно здесь. Поезд, остановившийся на минутку и уже исчезнувший (видны только блестящие рельсы), оставил на платформе большую больничную койку, на которой кто-то лежал. Мы окружили его. Он был болен, не то чтобы действительно болен, скорее ослаблен, что-то лишило его сил. Оказывается, его измучили роды, он произвел на свет детей и ослаб, но был счастлив, горд собой, легкая победоносная улыбка блуждала на его лице. Смесь Цахи с кем-то еще, лежит в одежде цвета хаки, под армейским одеялом.
Ребята стали хлопотать над ним, повезли кровать к бараку, а вокруг всеобщее, массовое веселье, какое-то всеохватное, включая и новорожденных, лежавших как какая-нибудь куча мешков. Сложенные в сторонке, тихие и улыбающиеся, уже человеческие создания, не младенцы, — с волосами и зубами, одетые в маленькие дорожные костюмчики с пуговицами и пряжками. Вот их поднимают на деревянные подмостки с навесом для багажа, и царит суматоха и всеобщее веселье, и только этот одинокий, породивший детей человек растерян и даже печален. А я стою в стороне и смотрю, чувствуя себя покинутой. Ведь любил же он меня когда-то? А сейчас лежит на койке, откинувшись на подушку, и смотрит на толпу, которая кудахчет вокруг детей, родившихся без матери, детей, рожденных им для всех, и это главное. Я нерешительно приближаюсь к нему, отводя глаза, взгляд мой падает на младенцев, неподвижно лежащих с крепко запеленатыми ногами. Я знаю, что у них какой-то дефект, тайный, ужасный. А толпящиеся вокруг люди берут то одного, то другого на руки и снова кладут на место, выбирают для себя и подбивают меня тоже взять себе одного из них, а я вижу — там, в углу, лежит ребенок, уже довольно большой, такой старый недоносок с маленьким бельмом на глазу, и протягивает ко мне свои маленькие ручонки. Скорее, скорее — слышу я вокруг себя…
Адам
Так я по крайней мере понял. Испуганный, взбудораженный, стою я в воротах увядающего, запущенного сада ясным летним утром, опершись о крыло своей маленькой машины, смотрю на девушку, стоящую передо мной, чужую и знакомую, вижу ее серьезное лицо, по-птичьи заостренное личико, толстую косу, спускающуюся на грудь, окидываю быстрым взглядом ее фигуру, ступни ног в сандалиях, изгиб лодыжки и слушаю, как она рассказывает свой ясный и определенный сон; в первый момент мне показалось, что она придумала его, чтобы признаться мне в любви. Лишь позднее, уже после женитьбы, я удостоверился, что такими были ее сны — ясными и определенными. И всегда она запоминала их со всеми подробностями. Никакого сравнения с моими снами: я видел их очень редко и были они смутными и запуганными.
Мы решили поддерживать связь…
Но я приехал к ней в тот же вечер, на этот раз захватив с собой пижаму, бритву, зубную щетку и рубашку на смену, уже влюбленный в нее, будто по какому-то тайному повелению; мне даже не пришлось приложить усилий, чтобы влюбиться. Достаточно было вспомнить девушку, которую я разбудил тогда ночью в палатке и которая казалась мне несравненно красивее ее теперешней. Я был влюблен не в нее и не в ту девочку, а во что-то среднее между ними.
Она слегка удивилась, увидев меня в тот же день. Ее отец, бродивший по дому, как лев в клетке, остановился на минутку и посмотрел на меня, а потом продолжил свое хождение. (Так он бродил по дому многие годы, почти не выходя за порог, не встречаясь с друзьями. Гордый и злой на весь мир, уверенный в своей правоте, в том, что с ним поступили несправедливо.) Только ее мать, мягкая и чуткая женщина с подслеповатыми глазами, подошла и пожала мне руку. Большую часть вечера мы провели в Асиной комнате. Она говорила о своей учебе, и о своих планах, и о том, что творится в мире. Ее мысли заняты политикой, общественными процессами, она сопоставляет, анализирует, сыплет именами, вспоминает события, всякие секретные подробности, неизвестные другим, которые кажутся ей чрезвычайно важными. Только тут я понимаю, насколько притупили мою любознательность долгие годы одиночества и тяжелой работы в гараже. Но вот я беру ее за руку, прижимаю к себе, целую ее губы, грудь, ощущаю на губах слабый вкус мыла.
Ночью она снова постелила мне на старом диване в гостиной. И снова в два или три часа ночи вошел опальный начальник в своей рваной пижаме, с возбужденным багровым лицом, опустился на колени перед большим старым приемником, крутит ручки, переходит от станции к станции, ловит название государства или свое имя в дальних далях. Я невольно ежусь под простыней, укрываюсь с головой, лежу тихо, мысленно спрашиваю себя, действительно ли я люблю ее. Наконец он успокоился и вернулся в свою комнату, а я не мог больше уснуть. В конце концов я встал, потихоньку оделся, побрился и зашел в ее комнату, чтобы разбудить. Но она спала очень крепко, сжавшись в комок; наверно, видела сон… «Люблю ли я ее на самом деле, — вертелось у меня в голове, — не лучше ли мне вовремя исчезнуть». Я оставил ей ничего не значащую записку и с первыми лучами солнца уехал обратно в Хайфу.
В полдень она появилась в гараже. Наверно, отец дал ей адрес. Я лежал под машиной, менял выхлопную трубу, и вдруг увидел, как она нерешительно входит в гараж. Я тотчас же встал и подошел к ней, покрытый копотью, недовольный, а она, ничего не говоря, подает мне знак, чтобы я продолжал работу, смотрит на меня испуганно, и это мне понравилось, успокоило, как будто так и должно быть. Я вернулся к машине, залез под нее, работал быстро и сосредоточенно, чтобы отделаться от хозяина машины, который с любопытством наблюдает, как она бродит между остовами машин, смотрит на инструменты, разбросанные вокруг, разглядывает фотографию голой девицы, которую я вырезал из журнала и повесил на стену. Она изучила все досконально, с большим интересом, даже сунулась в старый мотор, стоявший на столе. Наконец-то мне удалось надеть выхлопную трубу, и клиент исчез вместе со своей машиной. Я подошел к ней, она не стала объяснять причину своего неожиданного приезда и не расспрашивала, почему я сбежал утром, не попрощавшись. Спросила только, как работает мотор. Я объяснил ей. Слушала она внимательно, глаза у нее были грустными, голос слегка дрожал, вот-вот заплачет. Но вопросы задавала толковые, ни на что другое не позволяла отвлекаться, и вот я уже с увлечением растолковываю ей, даже разобрал для нее старый бензиновый насос, чтобы показать внутреннее устройство, объясняю и объясняю, никогда не думал, что можно сказать так много слов о работе обычного мотора.
Через три месяца мы поженились…
Она перевелась учиться в Хайфу, и первые годы мы жили в доме моей матери.
Я не знал, будет ли наш брак устойчивым, иногда казалось, что еще немного, и она оставит меня, пожалеет, что вышла за меня, найдет кого-нибудь, кто захочет взять ее. Я бы совсем не удивился, если бы она вскоре изменила мне. Но жизнь текла спокойно. Она была занята учебой, и мы вели очень размеренный образ жизни. Утром она шла в училище, потом сидела в библиотеке, а я, закончив свой рабочий день, за ней заезжал. С моей старой и больной матерью она уживалась отлично, терпеливо слушала ее бесконечную болтовню, ходила с ней по магазинам, терпела все ее причуды, прислушивалась к ее советам. Поскольку мы, мама и я, сразу почувствовали, что повариха из нее никудышная, мы поручали ей другие домашние дела, например мытье посуды или пола, и она все выполняла очень старательно, не брезговала никакой работой. Уже тогда я обнаружил ее странную любовь к старухам. В Хайфе жили несколько ее старых теток, к которым она была очень привязана и которых часто навещала.
И училась, училась. Все время с книгами, тетрадями и сумками. Еще не закончив училище, она записалась на вечерние занятия в университет. Почти каждые две недели у нее были экзамены, к которым она готовилась вместе со своими сокурсниками. Она оставляла мне записку, куда заехать за ней в конце дня: в библиотеку, в чей-нибудь дом, в кафе, иногда в парк. И я еду за ней после работы, покрытый копотью, в грязной одежде, тяжело шагаю по библиотечным залам, между столами, провожаемый взглядами читающих, нахожу ее в конце концов и тихо касаюсь ее плеча. Она кивает головой и шепчет: «Только закончу страницу». Я сажусь в сторонке, перелистываю страницы открытой книги, лежащей на столе, читаю, ничего не понимая, не находя связи. Как-то раз я сказал ей с улыбкой: «Может быть, и я стану изучать что-нибудь, сменю профессию, еще не поздно». Она удивилась: «Зачем?» И действительно, зачем? Ничто из ее мира не привлекало меня по-настоящему.
Хотя она и говорила мне, чтобы я не утруждал себя, что она может добираться домой сама, я всякий раз заезжал за ней. Мне хотелось знать, где она, с кем встречается, что делает в течение дня. Иногда меня одолевала странная ревность, я торопился закрыть гараж еще до окончания работы, намеренно являлся за час или два до условленного времени, подстерегал ее на лестнице или подглядывал в библиотеке из какого-нибудь угла. Но ничего такого не заметил. Она не собиралась оставлять меня, ей не приходило в голову влюбиться в кого-нибудь другого. Потому что она нашла себе мужа и дом и могла освободиться для интересующих ее дел и даже выкроить время для общественной работы. Она была членом студенческого комитета и однажды организовала забастовку, которая закончилась успехом.

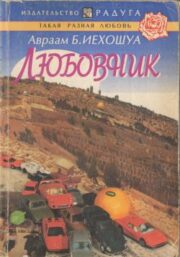
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.