Задрав голову, мы следили за полетом птичьего клина, пока он не исчез в вечернем небе, и только потом вернулись к лодке.
— Что вы сегодня делали? — спросил отец за ужином, к которому мы опоздали — грязные, искусанные комарами.
— Мы были счастливы, — сказал Майо за его спиной, скорчив при этом страшную рожу вампира: глаза закатились, клыки обнажены.
— Молодцы, дети, я рад за вас, — ответил отец, а мама улыбнулась.
Год спустя
Альма
Сначала я сняла книги с нижних полок, затем разобрала лежащие на полу, выкинула старые журналы, протерла пыль в книжных шкафах. Не припомню, когда я делала это в последний раз, быть может, никогда, но с тех пор, как Джузеппе начал ползать и рвать страницы всех печатных изданий, которые попадались на его пути, мне пришлось этим заняться.
Ему нравится звук разрываемой бумаги.
Дерг, дерг. При каждом рывке он заливается смехом.
Иногда Антония приводит его ко мне после обеда, а сама идет в библиотеку филологического факультета, рядом с нашим домом. Три месяца назад она вернулась к работе, говорит, что у нее «есть одна история», но все так загадочно, мы ничего не знаем. «Это будет история не про Феррару», — только и уточнила она.
В любую погоду после полдника мы с Джузеппе отправляемся на прогулку.
Наш привычный маршрут — в Сады Маргариты, где мы садимся под дерево гинкго билоба, я отрываю листик и даю Джузеппе: он сжимает в кулачке стебелек и долго, с удивлением, рассматривает его, нахмурив лобик.
Листья клена или березы не занимают его так, как гинкго билоба, я пробовала.
Если начинается дождь, мы укрываемся в баре. Джузеппе нравится сидеть у меня на руках и глазеть по сторонам. Он рыженький, и все обращают на него внимание: что–то говорят, берут за ручку, улыбаются. Он очень общительный, легко идет на контакт, улыбается в ответ. Всем улыбается — и недовольным, и нескладным, и некрасивым.
Как–то раз мы зашли в бар, где играют в бильярд, и мне вспомнилось то место, где мы с Майо сидели по утрам, когда прогуливали школу: убогий бар на окраине города. Главное, там нас не мог увидеть никто из знакомых.
Мы выбирали столик у окна, бросали как попало книги, куртки, тетради и ждали Микелу. Она выезжала из тумана на своем велосипеде, выкрашенном синей краской, останавливалась у столба и двумя оборотами цепи надежно привязывала его.
Майо выбегал на улицу помочь ей — в одном свитере, даже если было так холодно, что леденели пальцы в перуанских перчатках, которые мы тогда все трое носили. Микела была невысокого роста, она вставала на цыпочки, чтобы поцеловать Майо, и приветственно махала мне рукой из–за его спины. Я отвечала ей по другую сторону стекла, подняв руку с выставленными указательным и средним пальцами — символом победы. Таким помнится еще одно отвоеванное у школы утро, сырое от тумана, и бесконечно тянущееся время, когда мы были вынуждены скрываться в нашем «подполье», в убежище, на территории которого не действовали взрослые законы, имело значение только наше желание быть вместе.
Согревшись чашкой горячего капучино, мы с Микелой делали уроки или перебрасывались любимыми фразами из прочитанных романов, а Майо проводил время за игральными автоматами или болтал со старичками, завсегдатаями бара. Потом возвращался к нам, и мы болтали и курили. Я помню бесконечные разговоры: оживленные, восторженные, они сопровождались смехом, взглядами, легкими тычками — своеобразным проявлением нежности.
Мы никогда не говорили о том, кем мы будем, только о том, кто мы есть, чего бы мы хотели. Самое главное для нас было — жить друг для друга, проводить как можно больше времени вместе. Мы мечтали, что так будет всегда: мы втроем, и весь мир там, за стеклом.
Я снова почувствовала во рту тот вкус капучино, смешанный с запахом сигарет и тумана, и ко мне неожиданно вернулось то ощущение: так бывает, когда какой–то образ, голос, запах вызывает в тебе непреодолимое физическое желание.
С того самого времени я не пью капучино. И больше не курю.
— Все равно теперь в баре курить нельзя, понятно тебе? — сказала я Джузеппе, покрутив у его носика указательным пальцем. Он проследил за ним взглядом — справа налево и слева направо — и засмеялся.
В тот вечер, когда Антония спросила меня, смогу ли я простить их, я без лишних слов ответила — да, хотя только потом поняла, что речь шла о моих родителях, а вовсе не о Микеле и Майо. Я не стала уточнять. Мне бы не хотелось, чтобы Антония думала, что у нее настолько инфантильная мать — продолжает злиться на родителей, которых уже тридцать лет как нет на свете. Но не так–то легко простить отца–самоубийцу, даже когда тебе становится известна причина его душевной раны. И маму, ведь она все знала, но ничего не сделала, просто умерла.
Мама, она была такая добрая… Я до сих пор не могу спокойно вспоминать о ней.
Франко настаивает, что надо называть мальчика полным именем — Джузеппе Джакомо. Он смотрит на малыша с нежностью, приоткрыв рот. Когда мы возвращаемся домой и я сажаю Джузеппе на детский стульчик рядом с креслом, Рыжик растягивается у его ног. Им так хорошо вместе! Антония сделала их фотографию и разослала друзьям на Рождество.
Спросила и у меня, не хочу ли я отправить кому–нибудь фото, но потом осеклась: «Ах да, у тебя ведь нет друзей».
После рождения Джузеппе Антония ведет себя бесцеремонно, и я не могу понять, сблизило это нас или отдалило. Я вижу, что она счастлива, хоть последнее время неразговорчива, старается побыстрее сделать все дела. Думаю, это из–за ужасной занятости и вечной усталости. Джузеппе родился раньше срока, и Антония не могла кормить его грудью. В первое время она была целиком сосредоточена на том, чтобы каждые три часа, днем и ночью, стерилизовать бутылочки, готовить смеси, менять подгузники, взвешивать малыша. Неизбежные ритуалы, которые спасли мне жизнь.
Джузеппе — так звали отца Лео, — все решила Антония.
Мы с Франко ждали в коридоре, вышел Лео со свертком в руках и сказал: «Ваша дочь хочет назвать его Джузеппе, я тут ни при чем».
Мы подошли поближе: два круглых влажных глаза уставились на нас, и я вспомнила новорожденную Антонию, без волос, с красным сморщенным личиком, закрытыми глазами.
— А что, если мы назовем его Джузеппе Джакомо? Джакомо, как моего отца? — предложила я.
Я все еще не могу простить его, но могу передать кусочек отнятой у меня идентичности. Его имя. Имя библейского патриарха.
В больнице, когда я пришла в себя после аварии, то не могла понять, что произошло. Потом все вспомнила: где я была и зачем. Франко сжимал мою руку, и мне показалось, что глаза у него блестели.
Я думала, что умру, но выбрала жизнь: чтобы увидеть малыша Тони, чтобы жить ради нее и ради себя тоже. И ради глаз Франко, ради его взгляда.
Помню, как мы в первый раз сидели и разговаривали в баре на виа Дзамбони, рядом с университетом.
— Вы посещаете мои лекции, да? Находите меня скучным? — спросил он.
И посмотрел на меня таким взглядом.
Антония
Пиппо, Пеппо, Пиппи: Лео называет его по–всякому, только не Джузеппе. Я же зову его по имени. Маленькому рыжеволосому Будде нужно авторитетное имя.
Он спит в своей ярко–оранжевой кроватке: выбирая ее, я никак не ожидала, что она будет под цвет волос нашего малыша. У его отца медная шевелюра, а Джузеппе рыжий, как морковка. И очень красивый. Кругленький, нежный. Я знаю, что он проснется, потягиваясь, с улыбкой, ни разу не видела, чтобы он просыпался в плохом настроении. — Подожди, — говорит Лео, — увидишь, когда пойдет в школу.
В то утро, когда меня положили в клинику Святой Урсулы, Альму только что перевели из реанимации в палату. Она пролежала в больнице еще неделю, а меня отпустили под честное слово, что я приду домой и буду лежать в постели. Хорошо, что мы не встретились, это было бы забавно: мать и дочь лежат в одной больнице, только на разных этажах. Одну сбил мотоцикл, у другой — дефектная плацента. Я позвонила Альме, как только вернулась домой и улеглась в постель. Франко рассмешил ее, рассказав про замороженную курицу в пакете.
— Тони, помни, что ты не Сорани. У Зампа не бывает соматических расстройств, запомни, — пошутил он. Франко прав, когда говорит, что мама никогда не пасует перед конкретными проблемами, наоборот, становится сильнее.
Моя постель как малый челн… Я провела целый месяц на этом корабле, у меня было время и перечитать Стивенсона, и все обдумать.
О случившемся с ней в Пиластро Альма рассказала Лео. Это так нелепо, но я ей верю, и Лео тоже. Лео чувствует ложь. Альма хотела встретиться с Винсентом, преступным любовником времен ее феррарской молодости. Она знала, что он живет в Болонье, у нее был его телефон, он написал ей из тюрьмы.
Она и не думала его искать до того самого дня, когда ей пришла в голову мысль помочь Лео в расследовании дела калабрийской мафии. Идея столь великодушная, сколь и безумная, что очень похоже на Альму, поэтому я ей верю.
Винсент назначил ей встречу в том самом баре, но не пришел, и Альма решила вернуться домой. Она вышла из бара, где практически сразу же началась стрельба, и киллер, убегая на мотоцикле, сбил ее.
Лео выяснил, что Винсент был там, в баре. Альма его не узнала, настолько он изменился. Когда я показала ей фотографию еще крепкого мужчины с одутловатым лицом, которую мне дал Лео, Альма отвела взгляд: «Вряд ли это он». А потом тихо добавила: «Разве что глаза… ”
Винсент не имел никакого отношения к перестрелке. Он сидел за столиком, один, и наблюдал издали. Киллер сказал потом, что ждал, пока «уберется та женщина, чтобы прикончить того типа, которого надо было прикончить». Этот обкуренный болван, прождав полчаса, пока Альма уйдет, все–таки сбил ее, удирая на мотоцикле.

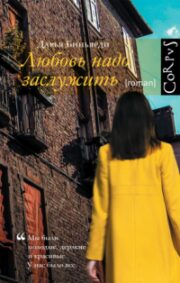
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.