Лучше всего можно увидеть небо из окна на кухне.
На умытом после дождя небе висит тонкий серп луны и видны даже две звездочки. Кухонный стол у стены освещает конус теплого света. Ночью здесь хорошо, лучше, чем днем.
Газовая плита — белая, эмалированная, стоит на кухне, сколько себя помню. На самой большой конфорке — чайник Альмы, на самой маленькой — кофейник Франко. Рыжик слушает нас, подняв кверху подрагивающий хвост, трется о ножки стола. Странно, этот кот никогда не мяукает, не помню, чтобы хоть раз слышала его голос.
Лео тоже зашел выпить молока с печеньем. Я решила сегодня переночевать у папы: Франко в порядке, просто я поняла, что отец стар, и для меня очень важно побыть с ним, быть может, даже важнее, чем для него.
Сколько себя помню, у Франко всегда были седые волосы и седая борода, но в эти дни они еще больше побелели. Он сидит на своем стуле, на том самом месте, где я привыкла видеть его по утрам — целых двадцать лет, — читающим газету с большой чашкой кофе в руках. Вот и сейчас он держит чашку, будто согревая руки. Внушительная фигура Лео, слишком громоздкая для такого маленького помещения, занимает почти всю кухню. Лео доел песочное печенье, макая его в молоко, и теперь посматривает на часы. Я знаю, сейчас он скажет, что ему пора в Комиссариат, он ведь так любит работать по ночам.
Неожиданно Лео спрашивает, обращаясь к Франко:
— Когда Антония была маленькой, что вы рассказывали ей про Майо?
Не понимаю, зачем он? И почему он не спросит об этом меня? Но любопытно, что папа ответит. Я помню, Альма говорила, что ее брат умер от лейкемии.
— В детстве Антония посмотрела какой–то фильм, в котором мальчик умирал от рака, и, думаю, сочинила себе, что ее дядя умер вот так же. Альма никогда ее не обманывала, — отвечает Франко, — кое о чем она просто умалчивала.
Кажется, я что–то припоминаю, но не могу вспомнить ни как назывался фильм, ни как Альма рассказывала мне о своем брате. Но я хорошо помню то замешательство и напряжение, которое возникало, когда кто–либо спрашивал Альму о ее родителях: я была слишком мала, но знала, всегда знала, как она страдает от этих расспросов. Когда такое случалось, я страдала вместе с ней.
Детям тяжело выносить родительскую боль: нужно помнить об этом, когда родится Ада.
— А ты никогда не расспрашивал ее о предках? Ты знал, что Сорани — еврейская фамилия? — продолжает Лео выпытывать у Франко.
Около полуночи, и мы все устали, но Лео говорит так спокойно и ровно, что папу, кажется, не раздражают его вопросы, напротив, он заинтересован, как и я.
— Я тактичный человек, Лео, — отвечает он с легкой улыбкой. — Или, быть может, не любопытный, — добавляет, закидывая ногу на ногу. — Я предоставлял ей право рассказывать, что она хочет и когда хочет. Я всегда был готов ее выслушать, а в остальном не задавал никаких вопросов. Откуда ты знаешь про еврейскую фамилию?
— В средней школе у меня был одноклассник с такой фамилией, его родители — практикующие иудеи. Мы дружили с ним, и я даже был на его празднике бар–мицва. Они не из Лечче, его отец — венецианец, работал в банке, — рассказывает Лео, — он объяснил мне, почему мой друг Давид не ест, например, колбасу.
Лео, в отличие от Франко, любопытный. Его интересуют люди вообще, ему не скучно с ними, тогда как Франко и Альма очень избирательно, если не сказать мизантропически, настроены ко всем, кроме коллег по работе.
Встреваю в разговор, чтобы рассказать все, что знаю от Лии про Джакомо и про его семью, про депортацию. Франко и Лео внимательно слушают, но у Лео при этом взгляд заинтересованный, как у человека, решающего какую–то головоломку, а Франко кажется отрешенным. Я знаю, что он старается отделить информацию от эмоций, если, конечно, он их испытывает: просто ему необходимо в любых обстоятельствах сохранять ясный ум.
— Все, простите, мне пора, — говорит Франко, тихо поднимаясь со стула.
— Я тоже должен идти. — Лео с шумом отодвигается назад, ищет взглядом свой плащ. — Мы еще поговорим об этом.
— Идем спать, — зеваю я.
Вижу, что папа совершенно измучен, и я тоже устала.
Когда Альма пришла в себя на десять долгих минут, она не сказала ни слова. Лежала неподвижно, как парализованная, и водила по сторонам глазами, не поворачивая головы. Наконец каким–то незнакомым, низким и глухим голосом спросила, не умирает ли она.
— Не думаю, что умирающие говорят таким мужицким басом, — мягко ответил ей Франко.
Тогда Альма повернулась ко мне и посмотрела так, будто хотела сказать: «Он шутит даже у смертного одра», но ничего не сказала, а только сжала его руку и слабо улыбнулась. Она вернулась к нам, это снова была она.
Франко наклонился к ней и прошептал:
— Ничего страшного, все будет хорошо. Тебя сбил мотоцикл, ты помнишь?
Она кивнула.
— Что ты делала в Пиластро, мам?
Я не могла удержаться, мне так хотелось спросить ее об этом.
— Я устала, — сказала она этим ужасным голосом и закрыла глаза.
Вскоре она снова уснула, а мы с Франко сидели и смотрели на нее. Она была очень бледной, но дышала ровно, руки у нее были теплые. Даже стала немного похрапывать.
Врач сказал Лео, что ей надо побыть немного под наблюдением и что операция прошла отлично.
— В воскресенье ее отпустят, вот увидите, — сказал Лео, отвозя нас домой.
Растянувшись в постели Альмы, вдыхаю аромат туберозы.
Я так устала, Ада сегодня вздумала пинать меня изо всех сил. Чувствую, как твердеет живот. Конечно, в эти дни я плохо ела, мало пила и недостаточно отдыхала. В понедельник доктор Маркезини все мне выскажет, это точно. Она предупреждала о вреде жирного и соленого, интересно, что она скажет, если узнает, что я питалась одной макаронной запеканкой?
Я не сказала Лео, что перед отъездом гинеколог прописала мне лекарство для снижения тонуса матки. С завтрашнего дня начинаю заботиться только о себе: пить много воды, есть фрукты и овощи, спать днем не меньше часа с поднятыми кверху ногами.
Перед тем как погасить ночник на тумбочке, заваленной книгами, проверяю сообщения в телефоне и нахожу письмо Майо.
Напечатано на машинке на двух листах, много слов зачеркнуто крестиком. Нет никаких дат.
Дорогая Мики,
помнишь песню Джона Леннона «Завтрашнему дню неведомо», я тебе всегда ее пел? Вот это со мной и случилось: я отключил свой мозг и поплыл по течению.
Я проснулся в тумане, рядом со мной два чувака, мы только
Последнее, что я про них помню — голос Сандро: он говорил, что слышит шум поезда на мосту рядом с нашим. Потом я заснул, а когда
Было темно, непонятно, сколько времени, я толкнул Ренато, и его голова свалилась вперед. Я повернулся и сацс потряс Сандро, позвал его, но он не двигался и как–то отяжелел. Я понял, что они мертвы, и подумал, что во всем обвинят меня. Я испугался.
Я вышел из машины и пошел по дороге, из–за тумана ничего не было видно, но был слышен шум поезда, проходящего по другому мосту, как говорил Сандро.
Мы играли с Альмой
Я шел по большому мосту и смотрел вниз. Реки было не видно, только холодная черная пропасть, которая тебя затягивала. И шум, как
Я подумал, что, если перелезу через ограду и разожму руки, все кончится в одно мгновение, но остался стоять, прислонившись к перилам. Альма была права, я идиот.
Потом вдруг я увидел свет, совсем рядом, и услышал
Я думал о маме, о том, как она звала нас: Альмаа — Майоо.
Думал об Альме, которая говорила: «Отчего ты убегаешь?»
Потом думал о тебе, когда ты смеешься.
Я поднял руки, шагнул к грузовику. Он меня не сбил, наоборот, он остановился. Водитель
Потом он сказал: «Come».
Come.
Иди.
На немецком, или английском, не знаю,
Я поднялся к нему в кабину. с
Я закрыл окно и ни о чем его не спросил — ни кто он, ни куда едет. Он повернулся и поехал.
Теперь меня зовут Осман, Осман Кайя. Я — турок: я родился заново в грузовике моего брата, Азила Кайя. Живу в Мадриде, но сначала я два месяца жил в Берлине в

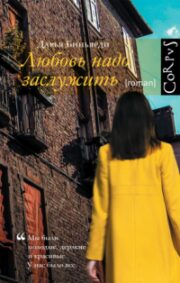
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.