— А это что? — спрашиваю у Микелы.
— Парк Парески, зайдем?
— Да.
Мокрые скамейки, маленький, очаровательный парк. Деревья такие высокие, что им, наверное, не одна сотня лет.
Большие магнолии с плотными глянцевыми листьями, конские каштаны, дубы, вязы, лиственницы, елки: каких только деревьев здесь нет! Напротив качелей под черепичным навесом стоит скамейка, сухая.
— Посидим здесь немного? — спрашиваю у Микелы.
— Конечно, — отвечает она, окинув взглядом мой живот.
Помолчав немного, будто бы не зная, с чего начать, Микела говорит:
— Я читала про Альму, мне очень жаль…
Я молчу.
— Как она? — спрашивает Микела.
Она стоит прямо передо мной, руки убрала в карманы. И больше не улыбается.
В парке тишина. Мокрые качели, и никого, кроме нас двоих. Интересно, почему у этого парка такое высокое каменное ограждение? Микела шевелит носком сапога опавшие листья.
— Очень плохо, — лгу я. — Нам сказали, сердце может не выдержать.
Не думала, что это так просто. Как заученная роль. Чувствую, что волнуюсь, словно все, что я сейчас сказала, — правда. Голос мой дрожит.
Микела наклоняется ко мне, покачиваясь на каблуках, берет мои руки в свои.
— Мне так жаль! — Ее маленькие ручки просто ледяные. Я смотрю ей прямо в глаза.
— Ты поняла, почему я сегодня приехала? — продолжаю я. — Майо жив, я знаю. Скажи, где он, как я могу с ним связаться? Завтра может быть поздно.
Она медленно распрямляется, опираясь ладонями о колени. Вздыхает. Опускает голову. Удивительно, как просто лгать, если это ложь во спасение.
Микела садится на скамейку рядом со мной, шарит в сумочке, достает табак и бумагу, привычным движением сворачивает сигарету. Закуривает. Выпускает дым в сторону. И, глядя куда–то в мою переносицу невидящим взглядом, произносит:
— Он умер десять лет назад.
— А знаешь, почему на этой улице нет никаких ворот, кроме монастырских? — шепчет Микела.
Мы сидим рядышком на последней скамье в маленькой церкви.
После того как Микела призналась, что Майо умер всего десять лет назад, снова пошел сильный дождь. Пришлось убегать из парка. Она потащила меня за собой по небольшой, вымощенной булыжником улочке, вдоль которой тянулась стена из красного кирпича, по всему видно — очень старого. Мы влетели в какую–то дверь и оказались в церкви. Значит, вот почему эта улица показалась мне странной: на ней нет ни ворот, ни домов, лишь высоченная стена.
Микела тихо рассказывает:
— На этой улице в Средневековье проходили дуэли. И тогда Катерина де Вигри, Святая Екатерина Болонская, которая жила в этом монастыре, придумала сделать здесь дверь, чтобы люди прекратили убивать друг друга. Перед церковной дверью они постыдятся. Тут рядом хоры Кларисс и могила Лукреции Борджиа.
— Микела, прошу тебя, мне нужно вернуться в Болонью, к Альме. Расскажи мне все. Как вышло, что он умер лишь десять лет назад? А раньше? Ты его видела? Куда он подевался? — не отступаю я.
— Однажды вечером он позвонил. Я была дома одна, смотрела телевизор. Родители работали в баре и обычно возвращались не раньше полуночи. Прошел год, как он исчез. Было плохо слышно, но я сразу узнала его голос: он сказал, не пугайся, я жив, живу в Мадриде.
Бледность Микелы приобрела пепельный оттенок. Она говорит очень тихо, монотонно, уставившись на алтарь, не глядя в мою сторону, и я непроизвольно отвечаю ей так же. Со стороны может показаться, что мы молимся.
— А ты что ему сказала?
— Сначала хотела бросить трубку, мне стало страшно, словно на том конце провода — призрак. Я была уверена, что он умер. Но в этот момент он сказал: «Я не призрак, Мики, это действительно я». Я заплакала. Мы говорили недолго, он звонил от кого–то, не знаю, от кого. Спросил о своих, пришлось сказать, что родители умерли, а Альма уехала из города. Это его как будто не удивило. Умолял меня не говорить никому о том, что он жив, обещал позвонить на следующий день. И позвонил. На этот раз было слышно лучше, сказал, что собирался мне написать и все объяснить, и что позвонит еще. Для него было очень важно, чтоб я не рассказывала никому, что он жив, потому что ни при каких обстоятельствах он не собирается возвращаться. Вернуться — означало снова сесть на иглу. Сказал, что доверяет только мне.
— И ты так никому ничего и не рассказала за все эти годы? — шепчу я.
— Никому… но Изабелла, кажется, поняла. Может, случайно прочитала одно из писем. Она никогда ни о чем не спрашивала, лишь однажды намекнула, но я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. Я умею хранить секреты. По крайней мере, думаю, что умею.
Микела смотрит на меня с беспокойством, словно боится. Чувствую, ей нелегко было нарушить свой уговор с Майо.
— Как ты могла ничего не сказать Альме? Это его сестра, она осталась совсем одна.
— Майо просил меня не говорить.
— Вы встречались?
— Один раз, в Мадриде. Мы переписывались.
— И как он жил?
— Хорошо. Работал с одним испанским техником по спецэффектам, который потом перебрался в Голливуд, иногда ездил к нему в Лос — Анджелес. В последние годы у него появилась подружка, Флор, она жила в Фуэртевентура, и он часто бывал у нее. Флор и сообщила мне, что он умер.
— А как же Альма? Ему было неинтересно, как она живет? И как он исчез? — Я непроизвольно повысила голос.
— Мы об этом почти не говорили, — отвечает Микела шепотом, повернувшись ко мне и делая знак говорить тише.
— Не говорили?! Разве вы не дружили все втроем? Ему была не интересна сестра? А тебе? — продолжаю я свое.
— Антония, Майо был не такой, как все. Он был… другой. — Микела, кажется, теряет терпение. — Он был свободен. И говори тише, а то придет монахиня. Скажем тогда, что хотим посмотреть могилу Лукреции Борджиа.
— Я не могу, Микела, мне нужно в Болонью, к Альме. Я хочу узнать только, как он умер и как ему удалось исчезнуть.
— Умер от инфаркта, мне сказала Флор спустя несколько месяцев, никто не знал, что у него больное сердце.
— Ты уверена, что это правда? А если это очередная ложь?
— У него не было причин снова инсценировать свою смерть, через двадцать лет после «воскрешения». Он знал, я его никогда не предавала.
— Как ему удалось исчезнуть той ночью?
— Он написал мне письмо. Если хочешь, я дам тебе почитать, оно сохранилось.
— Когда? Мне нужно бежать к Альме.
— Вернусь домой, сканирую и отправлю тебе по электронной почте. Это все, что я могу сделать, Антония!
Я встаю, смотрю ей в лицо, она не отводит глаз, выдержав мой взгляд.
— Отправь сразу же, как сможешь, — говорю я, сжимая ее плечо. Чувствую ее торчащие тонкие кости. Воробьиные косточки.
Надо спешить домой. Альма скоро проснется. Как рассказать ей про Майо?
Дождь перестал, но на улице по–прежнему пустынно и тихо.
Я размышляю о кавалерах, которые сражались у этих стен на дуэлях семьсот лет назад. О Святой Екатерине, решившей прорубить дверь в задней стене церкви. О Майо, который звонит из Мадрида и узнает, что у него больше нет семьи.
Нельзя устраивать дуэль перед церковными воротами. Нельзя бросать сестру, оставшуюся сиротой.
Если я потороплюсь, успею на пятичасовой поезд.
Я сижу уже больше часа в коридоре с ореховыми стенами, ожидая, когда там, за стеклянной дверью, проснется мама.
Десять раз проверила почту в телефоне, но Микела пока не прислала ничего. Перечитала последнее письмо, адресованное Лео, в котором я рассказывала ему о нашем разговоре с Лией Кантони. Размышляю, как меня сбила с толку фраза об ошибках, за которые приходится платить — я полагала, что это намек на бабушкину измену, а потом Лия объяснила, что бабушка ни при чем, что она имела в виду крещение Джакомо. Тогда я не поняла, что вся эта история имеет ко мне самое прямое отношение.
Я до конца не верю в разгадку тайны Майо. А вдруг это очередная ложь? Может, он еще жив? Может, он решил разыграть очередное свое исчезновение, не будучи до конца уверенным, что Микела — единственный его свидетель — его не предаст? Все–таки история дедушки и бабушки оставила заметный след в жизни маминой семьи. Мне нужно поговорить с Лией. Сейчас время ужина, но я знаю, что еда для Лии далеко не главное, поэтому можно звонить смело. Лия отвечает после первого гудка.
В трубке слышна фортепьянная музыка, не могу понять, что именно. Голос Лии по телефону кажется моложе. Она уже в курсе событий.
— Антония? Спасибо, что позвонила. Как Альма? Я прочитала в газете, что ее сбили, — говорит она со своим неповторимым феррарским акцентом.
— Ей сделали операцию, все прошло хорошо, я в больнице, жду, когда она придет в себя после наркоза.
Я вышла из коридора на аварийную лестницу, чтобы никому не мешать. Из сада доносится запах мокрых сосен. В Болонье тоже весь день идет дождь, но тумана нет. В воздухе разлито приближение весны. Молодой медбрат в красном пуховике, накинутом поверх белого халата, курит, прислонившись спиной к перилам. На голове у него беспроводные наушники, он приветственно машет мне рукой и продолжает курить и слушать музыку, покачивая в такт головой.
— Ну, хорошо. Я беспокоилась и за нее, и за тебя, — говорит Лия.
— За меня? — удивляюсь я.
— Беременным нельзя волноваться.
Значит, она заметила, но почему–то ничего не сказала.
— Ты думала, я не заметила? — усмехается Лия. — Заметила, просто не стала комментировать, ты бы подумала, что я — одна из тех дотошных старух, которые повсюду суют свой нос…
«Про вас можно подумать все что угодно, только не это, скорее, наоборот… ” — хочется мне ответить.

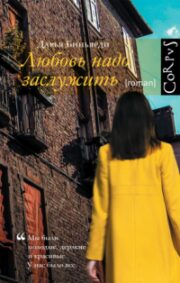
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.