Лео снимает очки, он всегда так делает, когда что–то не сходится. Поворачивается ко мне.
— Как же так?
— Теперь ты понимаешь, почему я хочу расследовать это дело? Какая–то нелепая история. Мама уверена, что все случилось из–за нее.
— Из–за нее? — в его взгляде недоверие.
— Это она предложила ему попробовать героин, с тех пор он стал колоться и однажды ночью пропал.
— Твоя мать кололась? Что ты несешь?
Он снова надел очки и смотрит с упреком, будто я над ним издеваюсь.
— Не строй из себя полицейского, был конец семидесятых, и они, подростки, решили один раз попробовать. Она ограничилась одним разом, а он не смог. В ту ночь, когда он пропал, двое парней умерли от передозировки, так что решили, что он тоже умер, но, возможно, был кто–то еще, кто спрятал тело, чтобы отвести подозрения. Спустя шесть месяцев мой дед покончил с собой. А бабушка заболела раком, — выдаю я на одном дыхании.
— Черт возьми!!!
— Черт возьми, вот именно.
— Значит, твой дядя пропал тридцать четыре года назад?
— Около того.
— И что ты задумала?
— Поехать туда, поговорить с теми, кто его знал. Понять…
— Но зачем?
— Чтобы помочь маме. Она все еще уверена, что это ее вина, представляешь? Хотя прошло столько времени. И себе тоже.
— Дорогая, думаешь, это один из твоих детективов? Во–первых, ты беременна, а во–вторых, что можно раскрыть в давней истории? Полиция провела расследование, неужели ты надеешься узнать что–то новое, чего они тогда не узнали?
— Ты же сам говоришь, что иногда вы недорабатываете, что сторонний человек даже представить себе не может, до чего халтурно порой идет следствие, теряются улики, дела раскрываются по воле случая…
— С ума сошла, ничего подобного я не говорил… — и осекается, знает ведь, что говорил. — Антония…
— Да, милый.
— Я люблю тебя…
— Я тоже тебя люблю.
— Могу я чем–то помочь?
— Можешь сказать своему коллеге из Феррары, что я хочу поговорить с ним. Следственные дела у них сохраняются?
— Думаю, да. Я попрошу его поискать. Надо знать, когда пропал твой дядя. Если они никуда не переезжали, если не потеряли дело… Скорее всего, тех следователей уже нет в живых.
— А вдруг есть? Может, кого–то еще застану, на пенсии.
— Может быть. Не хочешь ли, чтобы я этим занялся? Мне было бы проще.
— Я хотела бы сама, лично, и хочу поехать туда. Мне нужно понять эту историю. Дядя — наркоман, дедушка — самоубийца… Конечно, я их не знала, но все же…
— Мама твоя тоже хороша… рассказать такую историю, когда ты ждешь ребенка… — Вид у Лео грустный.
— Она говорит, что специально так сделала, что беременные неуязвимы.
— Надеюсь…
Лео вздыхает. Он обожает мою мать. Иногда, чтобы подразнить меня, говорит, что она лучше и что, наверное, он в нее влюбился. Мама красивая, что правда — то правда, всегда была красивой, даже если не признает этого. Альма вообще странный человек. Кажется неуверенной, но в действительности у нее очень сильный характер. Непредсказуемая, противоречивая, все решает сама. Такая эмоциональная, что не любить ее невозможно, хоть она и убеждена, что невыносима, и, надо признать, нередко бывает такой. Когда я была подростком, мы не ладили: это она казалась мне тинейджером, иногда кажется и сейчас.
— Сколько времени думаешь провести в Ферраре?
— Неделю максимум. В понедельник мне надо быть на приеме у врача. Попробую поговорить с полицией, с теми, кто знал Майо. Нужно сделать это до рождения Ады. Раньше я ничего не знала о маминой семье. Теперь понимаю почему.
— Ты ей сказала?
— Нет, не могу. Она не поймет. Ты должен меня прикрыть. Ты даже не представляешь, насколько ей трудно об этом говорить. Она уверена, что разрушила семью своими руками!
— А отец?
— Он ничего не знает. Мы увидимся завтра, нужно многое у него спросить. Альма уехала в Рим на выставку Гирри[4], и мы договорились пообедать вместе.
— А что говорит твоя доктор Маркетти?
— Что со мной все в порядке и что, в любом случае, в Ферраре есть отличная акушерка.
— Ты уверена, она именно так и сказала?
— Нет, конечно. Думаешь, я рассказала гинекологу личную историю? В самом деле, чувствую я себя превосходно. Твоя мама работала до последнего, и смотри, какой прекрасный ты получился.
— Но моя мама не… Ладно, Тони, делай, как знаешь, тебя все равно не переубедишь.
— Буду дома в воскресенье или раньше. Не волнуйся.
Альма
Мы пошли с Бенетти домой к одному типу, торговцу. Это был взрослый дядька, с усами, я никогда его раньше не видела. Он не был похож на наркомана и не хотел брать с нас денег. Мы еще подумали, что нам повезло.
Выглядел он довольным, держался любезно. Сам сделал нам укол, и было ощущение, будто по венам сразу же разлился сильный дурман.
Всю ночь нас рвало, и на следующий день мы проснулись очень поздно, с зелеными лицами.
Не говоря друг другу ни слова, мы схватили велосипеды и поехали в школу смотреть результаты. Как и предполагалось, Майо ожидала в сентябре переэкзаменовка по латыни. У меня средний балл «четыре» — лучше, чем я думала. Мы не ощутили ни радости, ни разочарования, только усталость и опустошение, словно беспечно потеряли что–то ценное, испытывали угрызения совести и вместе с тем не хотели это признать. В автобусе, который вез нас в деревню, сказали только, не глядя друг на друга: «Больше никогда».
Я сдержала обещание. Бросила даже курить косяки, настолько мне было плохо. Майо после каникул попробовал снова. Однажды вечером, ничего мне не сказав, пошел искать отраву. Как при укусе змеи, яд проник глубоко и подействовал. Никто не знает, от чего это зависит, — загадка. У меня было противоядие, у него — нет.
Месяц он кололся раз в неделю, по субботам. Мне сказала об этом Микела.
Я не хотела, не могла поверить. Я была напугана, но еще больше — рассержена. Пробовала говорить с ним, но он отмахивался, отвечал, ерунда, ничего страшного, не бери в голову. Потом каждый день. Мама заметила, стала давать ему метадон. Она никогда не теряла самообладания. Как ни странно, но то, что проблема в какой–то степени была ей знакома: ведь ребята приходили в аптеку за шприцами, — только усугубило ситуацию. Мама не расстраивалась, не паниковала. А он принимал метадон утром, а вечером кололся. И привыкание наступило еще быстрее.
Мы не знали, как сказать отцу. Он думал, что Майо устает в школе. Я готовилась к выпускным экзаменам, по–прежнему встречалась с друзьями, но радость померкла. Когда в семье серьезная проблема — это тягостное молчание, вечная тревога, пустота, которая скребет в желудке, постоянное недомогание.
Я злилась на Майо, на родителей, на всех. Считала, что это несправедливо. Я же хотела только пошутить тогда, вечером, в начале лета. Мне всего восемнадцать. Это просто–напросто глупая выходка, как было однажды, когда мы в горах напились граппы. Если он меня любит, он не может так со мной поступить. Это несправедливо. Мама говорила, что он вылечится, что она знает много случаев. Отправила его к психологу, но Майо, закончив сеанс, бежал колоться. «Из–за этого придурка мне только хуже», — так он мне сказал.
Он очень изменился. Если был под кайфом, без конца болтал, говорил какие–то глупости, если нет — молчал, смотрел в одну точку, зрачки расширены. Думаю, чтобы покупать «дурь», он ею и приторговывал. Уходил из дома в два, сразу после обеда, и возвращался в восемь вечера. Перестал учиться и часто прогуливал школу. Я так на него злилась, что не хотела с ним говорить. Он стал совсем другим, и я терпеть его не могла. Ненавидела и его предательство, и свое чувство вины.
Как–то на ужин мама приготовила куриные эскалопы. Отец положил себе добавки, потом посмотрел на тарелку Майо — тот ни к чему не притронулся, и сказал:
— Почему не ешь? Не хочешь? Ты же так любишь эскалопы.
Я не могла больше сдерживаться. Я взорвалась:
— Папа, он уже давно ничего не ест! Как ты раньше не замечал?!
Отец посмотрел сначала на меня, потом на Майо, потом перевел взгляд на маму.
— Что происходит? Ты заболел, Майо? Франческа, скажи мне правду.
И мама наконец–то произнесла:
— Джакомо… У Майо проблема, наркозависимость… но мы справимся. Я как раз ищу общину…
Майо попробовал улыбнуться и сказал:
— Простите, мне очень жаль. Все не так плохо, просто я действительно не голоден.
Он чесался. От него несло табаком и еще чем–то прогорклым. Он был под кайфом, и я знала, что он страдал от этого, но не так, как я.
Ему было наплевать на всех нас.
Отец встал из–за стола, подошел к Майо сзади и обнял его за плечи.
Майо остался сидеть: напряженная спина, неподвижное лицо.
Отец плакал, сжимал его плечи.
— Простите меня, — сказал он.
Потом ушел в свою комнату и упал на кровать.
Я не поняла, за что мы должны его простить, но я ненавидела его, ненавидела их всех. Маму — за то, что она ничего не сказала, и отца — за его слабость.
Почему они не рассердились, не заорали? Никто не защитил нас. Никто не защитил меня.
Это был последний раз, когда мы собрались вместе.
Не знаю, о чем разговаривали родители в тот вечер, но полоска света под дверью в их комнате оставалась допоздна. Я представляла себе маму, утешающую отца.
На следующий день была суббота, утром я ушла в школу, мама — в аптеку, отец — на собрание сельхозкооператива. Майо спал до обеда. Домработница сказала, что он проснулся, выпил чаю с печеньем и куда–то пошел. Больше мы его не видели.

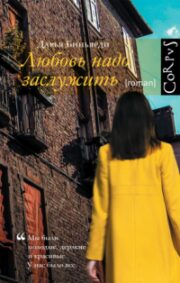
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.