Бедная Альма! Как же одиноко ей было!
Странно, но Мина сегодня не лает.
К счастью, Лия продолжает свой рассказ и ни о чем меня не спрашивает.
— Мне следовало быть добрее к твоей бабушке. Никто не проявил участия, все бросили ее одну. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять это. Ее… осуждали за выбор, сделанный Джакомо. И потом, эта история с Джордано. Но ее вины не было ни в том, ни в другом случае. Я сожалею, что не помогла Альме, когда она в этом нуждалась. Девочка осталась одна, и я могла бы помочь ей: мы жили напротив, но я была еще молода. Джордано просил меня об этом, а я отказалась.
Лия поднимает на меня глаза, но я не могу понять, что они выражают. Ее лицо спокойно. Кажется, она выше всего земного и далека от всего земного.
— Но угрызений совести я не чувствую, это ни к чему, — поясняет она, слегка пожав плечами. — Нет, не получишь, — обращается она к Мине, повысив тон, и накрывает салфеткой остатки запеканки на тарелке. — Ей вредны молочные продукты, — объясняет мне свой отказ, — а тут и сливки, и масло, и бешамель, поэтому так вкусно.
Лия встает, ловким движением отвязывает поводок и поворачивается ко мне, все еще сидящей за столом.
— Я хочу тебе кое–что показать, это рядом.
— Идемте.
Хотя она и стала со мной любезнее, все равно я чувствую себя неловко.
Она такая элегантная, уравновешенная, с хорошими манерами. Больше не говорит со мной на диалекте, которого я не понимаю, а жаль — это делало ее человечнее. Замечаю у нее в руке маленький пакетик из кондитерской, где работает Изабелла, и только собираюсь спросить, что там, как она говорит:
— Мы пришли.
По–моему, мы прошли всего несколько метров.
— Где мы? — спрашиваю.
— На виа Мадзини, раньше она называлась виа деи Саббиони. Главная улица Гетто. Там… — Лия показывает в сторону собора, — входные ворота, а всего их было пять.
Я не знаю, что сказать. Я совсем некомпетентна в этих вопросах.
— Здесь находятся синагога и музей, но их закрыли после землетрясения. — Лия показывает на кирпичное здание. — Видишь… эту мемориальную доску?
По бокам больших деревянных ворот с мраморным фризом — две мемориальные доски из белого мрамора. На одной из них — список имен.
Вижу, да, киваю я. И боюсь, понимаю, что это за имена.
— Это имена депортированных. Ты читала рассказы Бассани?
Вот, опять! Все говорят мне о Бассани, придется прочитать.
— Еще нет.
— Значит, прочитаешь, — говорит Лия снисходительно, словно извиняя меня. — Здесь имена твоих прабабушки, прадедушки и тети, видишь?
Я смотрю на стену — длинный список в алфавитном порядке.
Читаю. И в середине второго столбца вижу: «Ротштейн Джорджо», «Ротштейн Ванда», а затем «Сорани Амос», «Сорани Анна», «Сорани Ракеле».
— Вы знаете, где они похоронены?
Лия вздыхает, смотрит на меня, как на ребенка, который ничего не понимает.
— Они не вернулись, Антония.
Альма
Семена нам дал школьный товарищ, он прорастил их на балконе, и в пасхальные каникулы мы посадили ростки в поле, недалеко от По.
Родители очень удивились и обрадовались тому, что мы снова захотели ездить с ними по воскресеньям в дом у плотины, на самом же деле нам нужно было проверять наши посадки, поливать их, удобрять. Было очень увлекательно наблюдать, как небольшой росток превращается в двухметровое растение, и в одно сентябрьское воскресенье мы собрали урожай. При сушке мы что–то сделали неправильно — некоторые листья покрылись плесенью, но в итоге удалось получить несколько граммов марихуаны, которую мы сложили в полиэтиленовый пакет и завернули в фольгу. Сверток спрятали в сундук на чердаке, чтобы родители не почувствовали никакого запаха. Они все равно не распознали бы этот запах, но прелесть нашей операции как раз и заключалась в том, чтобы все делать тайно.
С Микелой мы обсуждали, где выкурить первый косяк собственного производства: поскольку это ритуал, то и место должно быть особым.
Идея пришла в голову Майо. Мы сидели в комнате у Микелы. Занятия в школе недавно начались, Мики листала новые учебники, лежа на ковре. Я читала Тагора, а Майо, усевшись на кровати, пытался настроить гитару.
— Еврейское кладбище, — сказал он. И дернул струну, издав низкий глубокий звук.
— Что? — переспросила я.
— Класс! — закричала Микела.
Я посмотрела на Майо с восхищением.
Еврейское кладбище в Ферраре считалось местом таинственным, заманчивым и вместе с тем внушающим страх. В любой компании всегда находился герой, который хвалился, что побывал там ночью — перелез каким–то образом через высоченную широкую стену, усыпанную сверху осколками бутылочного стекла. Мы никогда там не были, даже днем, но знали, что это пустынное, не слишком охраняемое место, где можно легко укрыться.
Мы назначили встречу у входа на виа делле Винье. Майо положил немного травы в жестяную банку с лягушкой на крышке, Микеле было поручено взять папиросную бумагу, а мне — серебряную зажигалку. Ритуал предполагал определенные правила: все должны были принимать в нем участие. Мы с Майо никогда не были на кладбище, даже в Чертозе неподалеку. У нас не было родственников в Ферраре, мамина родня — половина на Сицилии, другая половина — в Триесте, а папина — мы даже не знали, где они похоронены. И никогда об этом не спрашивали.
Дедушка и бабушка Микелы похоронены в Чертозе, на католическом, как его называли, кладбище.
Ворота были закрыты. Вывеска сообщала, что в зимний период еврейское кладбище открыто до полпятого, а летом — до шести. Был теплый октябрьский денек, но, очевидно, уже действовало зимнее расписание. Мы решили прийти сюда завтра сразу после обеда. Неожиданное препятствие еще больше подогрело нас, разгуливать по городу с марихуаной казалось нам опасным приключением.
Следующий день выдался прекрасным, теплым и солнечным: голубое небо и торжественные белые облака.
Ожидая Микелу, мы разглядывали большие ворота в гранитном обрамлении с какой–то надписью наверху и шестиконечными звездами на колоннах. Наши весьма скудные познания о еврейской жизни ограничивались «Дневником Анны Франк» и школьными уроками истории, но мы поняли, что это звезды Давида.
Майо заметил, что такую же звезду он видел на подсвечнике у нас дома.
— А знаешь, в «Тибетской книге мертвых» есть шестиконечная звезда со свастикой внутри? — спросил он.
Майо, будучи фанатом Джона Леннона, увлекся буддизмом, но, как всегда, поверхностно. Когда он узнал, что Леннон, вдохновленный «Тибетской книгой», написал текст песни Tomorrow Never Knows[18] j она тут же стала для Майо культовой. Не думай ни о чем, расслабься и плыви по течению — это была одна из его любимых фраз.
Увидев Микелу, Майо побежал навстречу. Мы пристегнули ее велосипед вместе с нашими к столбу у входа. Объявление на входной двери сообщало, что нужно вызвать сторожа звонком.
Нам открыла женщина с рыжими кудряшками и густо подведенными ярко–синими глазами. На ней был красный, лакированный, сильно приталенный жакет. Несколько секунд она разглядывала нас своими большими глазами, а потом пригласила войти в вестибюль, где пол был выложен плиткой из мраморной крошки, и ткнула пальцем в Майо:
— Мужчинам нельзя с непокрытой головой.
Майо непроизвольно потрогал макушку.
— Надень вот это, и не забудьте расписаться в журнале, — добавила сторожиха, развернулась и исчезла. Ее явление длилось меньше минуты, но мы стояли, пораженные.
Мы прошли в небольшую комнату, где на маленьком столике лежал журнал, корзина с головными уборами и шпильками для волос и чаша для пожертвований. На стенах были развешаны снимки деревьев, сфотографированных в разное время года, и напечатанные на машинке строки Альберто Виджевани[19]. Майо продекламировал: Они знают, мы знаем — невозможно вернуться в весну, в очарование новых цветов, новых листьев. Они знают, мы знаем, что сон без сновидений под безмолвным снегом или зеленым ковром неизбежно ожидает всех нас.
— Да уж, весело! — отозвалась Микела тихо. И добавила, показывая на журнал: — Что будем делать?
Записывать свои имена в журнал никак не входило в наши планы. А если нас засекут? И кто–то увидит, что мы курим?
В коридоре висело объявление: «Просим туристов, посещающих еврейское кладбище, вести себя достойно, как подобает святости места».
Мы, хоть и не имели опыта посещения кладбищ, и без этого объявления понимали, что курить косяк в таком месте — не слишком уважительно, но ведь мы не собирались осквернять могилы, наши намерения были, скорее, эстетического и духовного порядка: мы искали подходящую атмосферу, особую, а на кладбище она была именно такой.
Наши неблаговидные намерения лишь добавляли эмоции событию, которое мы хотели торжественно отметить, но не были самоцелью.
— Сначала сходим, потом напишем, — сказала я. — Подумаем.
Мы помогли Майо закрепить шпилькой ермолку и пошли дальше, в большой заброшенный парк. Сторожиха будто бы растворилась. Пройдя мимо небольшого мавзолея из белого мрамора, украшенного бронзовыми орлами, мы углубились в парк. Шли наугад, пораженные размерами кладбища, его стариной и запущенным видом. Дальше были величественные мраморные ворота с надписью на иврите и звездой Давида. За воротами открывался большой пустырь с гигантскими деревьями по периметру: дуб, тополь, бук, каштан. Этот заброшенный парк совсем не напоминал кладбище, пока мы не увидели торчащие из земли старые, потемневшие от времени, могильные камни. Многие были разбиты, а едва различимые буквы поросли мхом. Пройдя дальше, мы попали на территорию, которая казалась еще более древней. За старинными стенами кладбища виднелись хорошо знакомые нам земляные валы.

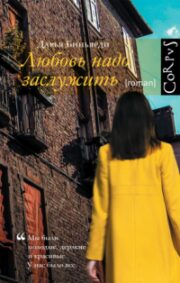
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.