— Я же сказал, сегодня — день упреков. Знаешь, надо отметить в календаре…
— Вот видишь? Ты или шутишь, или умничаешь, или показываешь свой рационализм. По–другому ты не умеешь.
В трубке тишина. Должно быть, я его уязвила.
— Как по–другому? О чем ты, Антония?
— Порыв… эмоциональность… сопереживание… Мне кажется, мама чувствует себя очень одиноко.
На этот раз молчание затянулось.
Затем он продолжает прежним тоном:
— Я делаю все, что могу, Антония. Стараюсь быть рядом, когда это нужно. Понимаю, что ты очень расстроена и даже напугана сегодня. Но какой смысл в том, что я скажу тебе «Бедняжка!» или попытаюсь тебя утешить? Я думаю, что шутить или рационально объяснять — единственный способ поддержать тебя… Что бы ты хотела от меня услышать? Чего тебе не хватает?
— Не знаю, папа. Наверное, хотела бы поплакать. Обнять тебя. Как нам теперь быть с мамой? Я не могу рассказать ей по телефону про эту историю. Не говоря уж о том, что я вообще ничего не понимаю… Я хотела лишь узнать, жив ли Майо, а если умер, то как, но вдруг узнаю такое… это я еще не все рассказала!
— Есть еще что–то?
— Да, и ты скажешь, что это — мелодрама.
— Выкладывай.
— Получается, что Майо — сын не дедушки Джакомо, а любовника, который был когда–то давно у бабушки Франчески. Их отношения закончились еще до рождения Майо. Он был префектом и жил по соседству. Это брат синьоры, с которой я сегодня встречалась.
Франко молчит.
— Почему ты ничего не говоришь?
— Я боюсь, ты неправильно поймешь мои слова. И вообще… у меня нет слов, да. Ты… в этом уверена?
— Предоставить источники? Вот три разных.
— Какие?
— Первый — соседка, второй — тетя маминой подруги, третий — комиссар–неаполитанец. А ему сказал старый комиссар, которому префект сообщил лично.
— Префект тоже еврей?
… Да.
— Когда это было, в какие годы?
— Я не знаю, папа! Завтра сделаю свой урок и принесу тебе на проверку, хорошо?
Знал бы он, как меня раздражает этот допрос!
— Вот видишь, что бы я ни сказал, все не так. Поэтому я тебе и не звоню: ничего не могу с собой поделать, по телефону у меня менторский тон. Могу себе представить, ситуация действительно непростая. И ты выбита из колеи, бедняжка…
«Бедняжка»… все–таки он меня рассмешил! Никогда не видела, чтобы отец потерял над собой контроль, кричал. Что бы ни случилось, он всегда спокоен, шутит. Это потрясающе, только если ты не его дочь или жена. Особенно жена, потому что я очень люблю отца, за исключением разве что сегодняшнего вечера. Действительно, странный вечер, папа прав. Или мартини был лишним на голодный желудок.
— Как ты думаешь, мама могла знать об этой истории с Майо и о своих корнях?
— Не думаю, мне кажется, она не задавалась вопросами о далеком прошлом. Ей было достаточно настоящего, и без того трагичного. Все ее вопросы, все страхи крутятся вокруг случившегося в тот год, когда Майо исчез. Все произошло так быстро, боль была такой невыносимой… то, что случилось раньше, для нее не имеет значения. Прошлого не существует. По крайней мере, мне всегда так казалось.
— Потрясающе! В тебе есть человечность.
Какое–то время отец молчит, а потом продолжает низким глухим голосом. Если б я его не знала, я бы решила, что он взволнован.
— Антония, моя студентка забеременела от меня через три месяца после нашего знакомства. Девушка была совершенно потерянна. Все эти трагедии… Я остался с ней. Ты считаешь, это разумный выбор?
— По правде говоря, нет.
— Ты можешь себе представить, как я был к ней привязан?
Меня очень трогает его откровенность. И мне, как и ему, хочется пошутить, разрядить обстановку, сдерживая свои чувства.
— По правде говоря, да. То есть нет, не могу представить. Но я понимаю, о чем ты. Я никогда об этом не думала. Просто я ничего не знала о том, что случилось. Папа… мы же с тобой говорим о любви, о чувствах! Представляешь? Это же возмутительно!
— Негодница, шутить в такой момент… и кто тебя научил?
Он гордится мной, я это чувствую. Гордится, что я на него похожа.
— И еще, папа…
— Да, Антония.
— Ты ее по–прежнему любишь?
Никогда бы не подумала, что смогу задать такой вопрос. С улицы доносится сирена — полиция или «скорая помощь». Но папин голос, глубокий и ясный, перекрывает этот звук:
— Я всегда буду любить ее.
Альма
На море мы ездили в августе, снимали белый двухэтажный домик с садом, где на лужайке, усыпанной шишками и сосновыми иглами, стояло барбекю.
Родители говорили, что это недорого, потому что далеко от магазинов, и еще потому, что рядом небольшой пруд, полно комаров, как раз за дюнами бесплатного пляжа, но именно такое место их устраивало, и они выбрали бы его, даже если б пришлось платить больше. Многие феррарцы избегали жить в этом районе, удаленном от побережья, рядом с пиниевой рощей, но только не мои родители, привычные к уединению в своем доме у плотины.
Мы с Майо могли свободно гулять где хотели, однако наш ежедневный маршрут был неизменным: пляж, бесконечное купание в море, возведение вместе с другими ребятами песчаных замков, волейбол, бильярд, мороженое. К обеду мы возвращались домой, проводили долгие сиесты в комнате с закрытыми ставнями, листая журналы, а потом снова на море, до самого захода солнца.
Однажды в субботу мама приготовила рис с овощами, вареные яйца, десерт из персиков и предложила устроить пикник в пиниевой роще. Папа положил в корзину два пледа, скатерть, три бутылки воды и большой нож для арбуза. Майо было поручено везти арбуз, а мне — тарелки и бумажные салфетки.
Мы поехали на велосипедах, друг за другом, стараясь избегать корней и выбоин на дороге, чтобы не уронить подвешенные на руле пакеты и корзины, и дальше по тропинке, через пиниевую рощу, настоящий густой лес, который тянулся от нашего дома до самой Равенны. Лес был совершенно безлюдным.
Проехав пруд, мы бросили велосипеды у сосны и пошли пешком через заросли можжевельника в поисках места для пикника. Было слышно лишь пение зяблика да кваканье лягушек в пруду. И запах лета: запах сосен, нагретых солнцем, запах смолы. Выбрать место для пикника оказалось непросто, и мы с папой отчаянно спорили, где лучше.
Маму и Майо все устраивало, но я хотела найти местечко в тени, без муравейников, не слишком замусоренное ветками и сосновыми шишками, недалеко от дюн и моря, и от пруда тоже.
После обеда мы прилегли отдохнуть — каждый положил голову на живот соседа так, что получился квадрат. Отец начал рассказывать сюжет детектива, который он читал, мама пыталась отгадать убийцу, а он, заглушаемый нашим смехом, кричал: «Не говори, не говори мне ничего».
Потом мы с Майо оставили их болтать, а сами пошли искать орешки пиний. От грязноватой коричневой скорлупы темнели руки и лицо, некоторые орешки мы складывали в пакет, а другие разбивали камнем и съедали сразу. Вкуснятина.
Мы дошли почти до пруда, как вдруг увидели бегущего по тропинке мальчика в плавках и резиновых тапочках. Мальчик был выше нас ростом, полный, даже толстый, со складками на животе. По лицу его текли струйки пота. Запыхавшись, он спросил, не видели ли мы ежика. Говорил он смешно, с римским акцентом, и был не такой, как другие ребята с пляжа. Он сказал, что отдыхает с родителями и их друзьями в кемпинге неподалеку. Мы слышали об этом кемпинге, но никогда там не были и не знали никого оттуда. Мальчика звали Валерио, ему было тринадцать, как мне, на год меньше, чем Майо.
Он сказал, что вечером ребята из кемпинга устраивают футбольный матч на бесплатном пляже, и спросил, не хотим ли мы присоединиться. Майо загорелся — он любил играть в футбол, посмотрел на меня, и я сказала, да, придем. Ежика мы так и не нашли, но Валерио все равно был счастлив, потому что я показала ему белую цаплю на берегу пруда и большую сойку, вцепившуюся в ветку старой сосны.
Вернувшись на поляну, мы нашли спящих в обнимку родителей. Когда они проснулись, мы не стали рассказывать им о встрече с Валерио. Скрывать нам было нечего, просто хотелось иметь свою тайну.
В условленное время мы с Майо отправились к дюнам. В этой части побережья мы оказались впервые, хотя дюны совсем недалеко от нас. Говорили, туда ходят нудисты и гомосексуалисты, но мы просто привыкли к своему пляжу с бильярдом, сеткой для волейбола, музыкальным автоматом, который так нравился Майо, к знакомым ребятам.
На пляже собралось человек двенадцать: мальчишки разного возраста — младшим было лет семь–восемь, и две девочки. Я видела, как Майо непринужденно общается с ребятами, и, растянувшись на песке, наблюдала за игрой. Майо без устали бегал, а ребята, подбадривая его, кричали: «Эй, Ma!» В тот день он забил три гола. Неожиданно ко мне подошли две девочки, и старшая — с большой грудью, больше, чем моя, — указала на Майо и спросила, не мой ли это парень, выговаривая слова смешно, как Валерио. Я механически ответила, да.
Потом она заговорщицки посмотрела на подругу, и, обменявшись улыбками, девочки присели рядом и принялись что–то рисовать пальцами на песке. Но вскоре поднялись, попрощались со мной и убежали.
После матча Майо вместе с ребятами из своей команды пошел окунуться, потом прибежал и, мокрый, растянулся рядом со мной. Он тяжело дышал, лицо у него раскраснелось. Он выглядел довольным, счастливым.
— Тебе было скучно?
Я ответила, что нет, и он, весь в песке, перевернулся на спину.
— Ну и шары!
— Ты про мяч? — отозвалась я недоуменно. Он повернулся на бок и уставился на меня, подперев голову рукой.

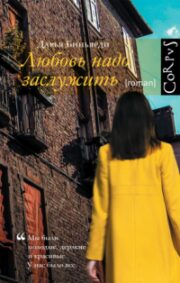
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.