В этот самый момент Андрей окончательно понял, что потерял ее. Нет никакой надежды, что когда-нибудь она станет госпожой Калугиной. Чушь, бред, ерундистика… И он не имеет права чего-то требовать от нее. Ревновать, диктовать условия, срывать поцелуи украдкой…
Наверное, под ногой Андрея скрипнула половица. Или он не заметил, как с губ его сорвался легкий всхлип, сдержанное рыдание… Карасев обернулся с занесенной над холстом кистью, раздраженно скривив лицо.
— Что? — испуганно вскрикнула Дуся. — Кто там?
Дольше скрываться было нельзя — Андрей распахнул дверь и сделал шаг вперед. Он смотрел только на портрет.
— Что за наглость?! — яростно проскрипел Иван Самсонович. — Я же просил меня не беспокоить… Семен, дурак, опять забыл закрыть дверь! А вас, молодой человек, сюда не приглашали…
Бледный ноябрьский свет лился из широких окон, Дуся закуталась в полотно и молча смотрела на Андрея печальными испуганными глазами.
— Ты не понимаешь… — наконец прошептала она. — И вообще, ничего же такого… Это искусство! Господи, Андрей, да что с тобой?
Вероятно, у него было такое лицо, что Дуся не стала раздумывать и бросилась к нему, кутаясь в драпировочную ткань, изображавшую снег.
— Нет! — с ужасом произнес Андрей, протягивая вперед ладонь, но было поздно — Дуся бросилась ему на шею, он ощутил гибельное прикосновение ее обнаженного тела. Но если им нельзя владеть, то и прикасаться к нему нельзя!
— Евдокия Кирилловна! — вопил Карасев. — Вы разрушили всю композицию, я теперь эту тряпку сто лет не разложу как надо… Без ножа режете!
— Не надо, — сказал Андрей, отталкивая Дусю. — Все в порядке. Я все понимаю… Потом… потом поговорим!
Он не помнил, как выбежал из дома Карасева, как мчался по скользкому снегу к своему дому. Дуся не могла принадлежать ему. Так зачем жить без нее, зачем корчиться в муках еще каких-нибудь лишних сорок-пятьдесят лет, наблюдая за ней издалека, умирая от ревности — ко всем и ко всему? Они были правы — жалкий студентишка…
Дальнейшего он тоже не помнил — как оказался на своей квартире, как достал нож. Умереть надо было наверняка. Он вскрыл себе вены и — чтобы уж наверняка — шагнул на карниз, оставляя за собой красный след. С высоты пятого этажа ему показалось, что это не земля летит ему навстречу, а он сам поднимается к небу, туда, где нет Душ Померанцевой… Ему как можно скорее надо было туда, где ее нет…
Он не умер. Как мрачно пошутил лечивший его доктор, потомственный нигилист, ведший свою родословную, вероятно, от самого Базарова, «вся кровь не вытекла, а земля оказалась слишком мягкой».
Травмы Андрея были серьезны, но никакой опасности для жизни не представляли. Гораздо хуже было другое — рассудок его словно помутился. Он кричал и просил для себя смерти. Он говорил только об одном — что ему надо поскорее уйти отсюда.
В самом деле, боль физическая не имела для него никакого значения, он воспринимал ее даже с радостью — как средство не думать о его бывшей возлюбленной, Дусе Померанцевой. Но стоило боли немного утихнуть, как перед ним появлялось бледное личико с тенями вокруг огромных глаз, прекрасное до ужаса, — и он готов был на все, чтобы не видеть его…
Что же касается самой Дуси, то она после этого несчастья, случившегося с ее названым братом, едва не сошла сума. Она прибежала домой от Карасева и, дрожа, заперлась в своей комнате. Мария Ивановна недоумевала, но тут пришло страшное известие — Андрей в больнице, на грани жизни и смерти (тогда еще не было известно, что травмы Андрея не представляют серьезной опасности). Дуся открыла дверь и произнесла: «Это я виновата». Срочно вызвали из театра Кирилла Романовича и на всех парах помчались в больницу. Померанцевы до сих пор считали Андрея за сына и весьма беспокоились о его судьбе.
Рыдая и заламывая руки, Дуся призналась, что они с Андреем тайно обручены, но этим утром поссорились (у нее хватило ума не рассказывать о сеансах у Ивана Самсоновича, где она позировала ню).
Родители были неприятно поражены известием об обручении, но тем не менее выяснилось, что о чем-то подобном они уже начали подозревать. Впрочем, отношение их к приемному сыну не изменилось — они знали об исключительной порядочности Андрея и о романтическом его характере. Больше они ругали Дусю, которая допустила подобный мезальянс. Мезальянс в том смысле, что союз их дочери-актрисы с «тихим иноком» был совершенно невозможен, столь разных людей не соединит и венец.
Тут же романтическую помолвку с обменом колец из травы отнесли в разряд детских шалостей, которые никакого значения не имеют. От Душ потребовали, чтобы она немедленно попросила прощения у Андрея (о, если бы родители знали, что просить прощение действительно есть за что!), успокоила его и настроила того на совершенно определенный лад: они только добрые друзья, и не больше. Дуся пыталась объяснить, что она готова выйти за Андрея хоть сейчас, что ей плевать на всякие там предрассудки — лишь бы ему было хорошо.
Слава богу, что ораторского дара Кириллу Романовичу было не занимать — еще там же, в больничном покое, он сумел весьма убедительно объяснить своей дочери, что ничего хорошего из этого брака не вышло бы, одни страдания.
Но Дусе каяться и просить о дружбе не пришлось — Андрей не захотел ее видеть. Даже более того: он кричал и рвался из рук санитаров, угрожая тем, что снова попытается наложить на себя руки, если Дусю к нему допустят. Мрачный эскулап с усмешкой объяснил Померанцевым, что «нечего юношу травить видом чересчур прекрасной фемины» и что «с глаз долой, из сердца вон»…
Дусю к Андрею так и не допустили. Позже, когда физическое здоровье Андрея уже достаточно окрепло, она вновь пыталась проникнуть к нему, но каждый раз эти попытки оканчивались ничем — больной вновь угрожал свести счеты с жизнью, если хоть раз увидит ее.
Тогда же было решено окончательно, что отныне всякая связь между ним и Дусей Померанцевой прерывается, и даже со старшими Померанцевыми отношения будут вестись через посредника, ибо всякое напоминание о Дусе приводило больного в страшное исступление.
Андрея поместили в частную психиатрическую клинику, где лечили новейшими методами и отношение к пациентам было самое гуманное. Словом, Померанцевы сделали все, чтобы бедному сироте было хорошо, и просили докторов регулярно сообщать им о его самочувствии.
«Пропал товарищ ни за что ни про что, — говорил Катышев. — А ведь в тот самый день, когда с ним помрачение случилось, я его видел. Во всем бабы виноваты… Вот те крест, никогда не женюсь! Такое у него лицо было странное… ясно, что человек не в себе. И актрисулю я тоже видел… Не понимаю, что он в ней нашел? Бледная, тени под глазами в пол лица. Оно, конечно, это модно сейчас, но совсем не в моем вкусе!»
Позже Катышев сошелся с Бурлюком и Крученых, писал футуристические стихи, в которых честному обывателю ни строчки нельзя было понять…
Первое время Андрей вел себя в клинике беспокойно, требовал для себя смерти, периодически отказывался от пищи, окружающую действительность совсем не хотел воспринимать. Но потом он словно успокоился, приступы буйства у него прошли. Правда, новый врач, который вел его теперь, в этом спокойствии ничего хорошего не видел и апатию эту называл «постепенным угасанием души.
В клинике работал один человек. Обязанности его касались хозяйственной части, и к медицине он не имел никакого отношения, но тем не менее он принимал живейшее участие в судьбе пациентов. Андрей заинтересовал его — и по доброте душевной, человек этот, звавшийся Ильей Лаврентьевичем, решил помочь ему.
Долго у Ильи Лаврентьевича ничего не получалось, и все его попытки занять Андрея живой человеческой беседой, которая столь часто является единственным утешением для страждущего, заканчивались ничем. Андрей отвергал людей. Замкнутый и хмурый, он часами мог сидеть в своей палате, забившись в угол, и никак не реагировал на окружающее.
Можно было подумать, что все в нем умерло, но на самом деле это было не так. Внутри Андрея кипела жизнь, но жизнь невидимая, эфемерная — одна картина из прошлого сменяла другую. Он питался своими воспоминаниями — из тех времен, когда Дуся была рядом с ним. Каждая подробность прошлого бытия была взвешена поминутно, осмотрена со всех сторон, положена на определенную полочку… Андрей словно пытался найти в прошлом ту ошибку, которая изменила плавный ход событий. Карасев? Нет, дело не только в Карасеве, было еще что-то, что навсегда разлучило их с Дусей…
— Послушайте, отчего бы вам не пойти в сад — там такая чудесная погода? — обратился к нему в очередной раз Илья Лаврентьевич в перерыве между своих хозяйственных дел.
— Нет, мерси… благодарю… — отрывисто произнес Андрей, отворачивая свое безразличное лицо.
В другой раз Илья Лаврентьевич попросил его о какой-то услуге, искусственно срежиссировав ситуацию, в которой ему действительно требовалась помощь. Хитрости Илье Лаврентьевичу было не занимать — судя по всему, он был изобретательным человеком, к тому же очень неплохо понимающим пациентов клиники, в которой служил.
И однажды ему удалось выманить Андрея в сад и даже разговорить его.
— Я знал вашего отца, — как-то обронил он.
Некий просвет мелькнул в глазах Андрея, до краев заполненных черной меланхолией.
— У меня был замечательный отец, — невнятно пробормотал он.
— Да-да! И ведь знаете, он спас меня!
Поскольку Андрей явно откликнулся на это сообщение, Илья Лаврентьевич продолжил:
— Я ведь тоже когда-то был доктором, недаром течением жизни прибило меня к сему медицинскому учреждению… Правда, специальность моя к психиатрии отношения не имела, но тем не менее… Я работал в земской больнице под Тверью. Был очень молодой и глупый, все мечтал облагодетельствовать человечество…

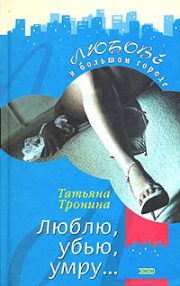
"Люблю, убью, умру…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю, убью, умру…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю, убью, умру…" друзьям в соцсетях.