– Конечно, поешь. Папа, ты сейчас должен пойти домой и что-нибудь съесть. Ты должен беречь силы.
Он берет банан.
– В нем море энергии. А сколько калия! – восклицает он и с улыбкой очищает банан точными движения-ми. – Домой я побегу трусцой, вот увидишь.
– А как ты сюда добрался?
До меня вдруг доходит, что папа уже много лет не бывал в городе. Для него все стало слишком быстрым, здания неожиданно выросли там, где их никогда не было, машины на дорогах ездят не в те стороны, что раньше. С огромным сожалением и грустью он продал свой автомобиль: его ухудшающееся зрение стало грозить бедой на дороге ему и другим. Семьдесят пять лет, десять лет, как умерла его жена. Теперь жизнь катится по привычной колее, он прижился в небольшом пригородном районе, где знает всех соседей. По воскресеньям и средам – церковь, по понедельникам – клуб (кроме праздничных дней, когда посещение переносится на вторник), мясник – по четвергам, кроссворды, головоломки и телевизионные передачи – в течение дня, его сад – во все остальное время.
– Фрэн, что живет через дорогу, привезла меня. – Он опускает банан, продолжая улыбаться своей шутке про бег трусцой, и кладет в рот виноградину. – Чуть не угробила меня два или три раза. Или даже больше – во всяком случае, достаточно для того, чтобы я понял, что Бог существует, если когда-нибудь в этом сомневался. Я просил виноград без косточек, а этот с косточками. – Папа хмурится. Покрытые коричневыми пятнами руки кладут гроздь обратно на тумбочку. Он достает изо рта косточки и оглядывается в поисках корзины для мусора.
– Папа, ты и сейчас еще веришь в Бога? – Это звучит жестче, чем мне хотелось, но меня душит гнев, он почти невыносим.
– Верю, Джойс, – без обиды или возмущения отвечает он. Кладет косточки в носовой платок и засовывает его в карман. – Поступки Господа непостижимы, мы часто не можем ни объяснить их, ни понять, ни принять, ни мириться с ними. Я понимаю, что ты сейчас можешь сомневаться в Его существовании, – со всеми нами это случается временами. Когда умерла твоя мать, я… – Он умолкает и, как часто бывает, оставляет фразу незаконченной: дальше он не пойдет – ни в предательстве по отношению к своему Богу, ни в обсуждении смерти жены. – А ведь на этот раз Бог ответил на все мои молитвы. Прошлой ночью Он уж точно услышал мой призыв. Он сказал мне… – Тут в голосе отца начинает звучать усвоенный в детстве сильный акцент графства Каван, который он утратил, когда подростком переехал в Дублин. – «Не волнуйся, Генри, я хорошо тебя слышу. Все под контролем, так что не переживай. Я сделаю это для тебя, нет проблем». И Он спас тебя. Он оставил мою девочку в живых, и за это я буду Ему вечно благодарен, хотя нам и грустно оттого, что ушел другой.
Мне нечего на это ответить, однако я смягчаюсь.
Он со скрежетом подтягивает стул ближе к моей кровати.
– И я верю в жизнь после смерти. – Он говорит теперь немного тише. – Да, это так. Я верю в то, что рай существует, там, наверху в облаках, и что все, кто когда-то был тут, сейчас там. Включая грешников, потому что Бог всех прощает.
– Все там? – Я борюсь со слезами. Не даю им упасть. Знаю, если начну плакать, то не остановлюсь никогда. – А мой ребенок, папа? Он тоже там?
Папино лицо пересекают глубокие морщины страдания. Мы старались поменьше говорить о моей беременности – из суеверия, очевидно. Срок был небольшой, и мы все волновались, а папа больше всех. Всего несколько дней назад мы немного поссорились из-за того, что я попросила его поставить к себе в гараж нашу кровать для гостей. Понимаете, я начала готовить детскую… Боже мой, детская! Оттуда только что вынесли кровать для гостей и разный хлам. Кроватка уже куплена. Стены выкрашены в приятный желтый цвет – «мечта лютика», над кроваткой – погремушка-мобиль с крутящимися утятами.
Оставалось пять месяцев. Кое-кто, включая моего отца, может подумать, что готовить детскую при сроке четыре месяца преждевременно, но мы шесть лет ждали ребенка, этого ребенка. И для меня в этом ничего преждевременного не было.
– Дорогая, ты знаешь, я не могу утверждать…
– Я собиралась назвать его Шоном, если бы это был мальчик. – Господи, наконец я произношу это вслух! Я повторяла эти слова про себя весь день, без конца, и вот теперь они льются из меня вместо слез.
– Шон – хорошее имя.
– Грейс, если бы родилась девочка. В честь мамы. Она бы обрадовалась.
При этих словах папа стискивает зубы и смотрит в сторону. Все, кто не знают его, подумали бы, что он рассердился. Но это не так. Я знаю, что за его стиснутыми зубами собираются слова, как в огромном резервуаре, они хранятся там запертыми, пока в них нет абсолютной необходимости, хранятся в ожидании прилива такой страсти, когда стены рухнут и слова хлынут наружу.
– Но я почему-то думала, что это мальчик. Не знаю почему, просто как-то почувствовала. Могла ошибиться. Я собиралась назвать его Шоном, – повторяю я.
Папа кивает:
– Правильно. Это хорошее имя.
– Я говорила с ним, пела ему. Интересно, он слышал? – Мой голос звучит откуда-то издалека, будто я кричу из полого ствола дерева, в котором прячусь.
Неожиданно я представляю себе будущее, которое никогда не наступит. Будущее с маленьким воображаемым Шоном. Песенки каждый вечер перед сном, белоснежная кожа и брызги во время купания. Брыкающиеся ножки и поездки на велосипеде. Строительство песочных замков и горячие вспышки негодования, когда не пускают играть в футбол. Гнев из-за потерянной, – нет, хуже! – убитой жизни мощной волной затопляет мои мысли.
– Интересно, понимал ли он?
– Понимал что, дорогая?
– То, что его упустят. Думал ли он, что я прогоняю его? Надеюсь, он не винит меня. У него была только я и… – Я приказываю себе остановиться. Хватит пока мучений, иначе через несколько секунд я просто закричу от ужаса. Если я сейчас начну плакать, то не остановлюсь никогда.
– Где он теперь, папа? Как человек может умереть, если еще даже не родился?
– О дорогая! – Он берет мою руку и снова сжимает ее.
– Скажи мне.
Теперь он размышляет об этом. Долго молчит, гладит меня по волосам, негнущимися пальцами убирает пряди с лица и заправляет их за уши. Он не делал этого с тех пор, как я была маленькой девочкой.
– Я думаю, он в раю, милая. Даже не думаю, я просто знаю. Он там с твоей матерью, да, он там. Сидит у нее на коленях, пока она играет в рамми с Полин, обдирает ее как липку и заливисто смеется. Конечно, она там, наверху. – Он смотрит наверх и машет потолку указательным пальцем. – Позаботься за нас о маленьком Шоне, Грейси, слышишь меня? Она расскажет ему про тебя все, обязательно расскажет, о том, как ты была маленькой, о том дне, когда ты сделала свои первые шаги и когда у тебя появился первый зуб. Она расскажет ему о твоем первом школьном дне и о последнем, а также о каждом дне между ними, и он будет знать о тебе все, так что, когда ты пройдешь через ворота там, наверху, старой женщиной, гораздо старше, чем я сейчас, он оторвется от рамми и скажет: «Вот и она. Эта женщина. Моя мамочка». Он сразу узнает тебя.
Огромный ком в горле, который я никак не могу проглотить, мешает мне поблагодарить его, но, возможно, папа все видит в моих глазах, так как он понимающе кивает и быстро отворачивается к телевизору, а я смотрю в окно, в пустоту.
– Тут, при родильном доме, есть часовня, дорогая. Может быть, тебе стоит туда сходить, когда тебе станет лучше и ты будешь готова. Тебе даже не нужно ничего говорить. Он не против. Просто сядь там и подумай. Дело полезное – я и сам всегда так поступаю.
Я думаю о том, что часовня – это последнее место на земле, где я хотела бы оказаться.
– Там внутри очень красиво, – говорит папа, читая мои мысли. Он наблюдает за мной, и я, мне кажется, слышу, как он молится о том, чтобы я вскочила с кровати и схватила четки, которые он положил у моего изголовья.
– Знаешь, это здание в стиле рококо, – неожиданно сообщаю я и совершенно не понимаю, о чем говорю.
– Какое? – Папа хмурит брови, и глаза исчезают под ними, как две улитки, прячущиеся в свои раковины. – Этот роддом?
Я напряженно думаю: «О чем мы говорили?»
Теперь его очередь напряженно думать: «О Молтизерзе? Нет!»
Он ненадолго замолкает, а потом начинает отвечать так, как будто участвует в викторине и сейчас тур вопросов на скорость.
– О бананах? Нет. О рае? Нет. О часовне? Мы говорили о часовне. – Он сияет улыбкой на миллион долларов, радуясь тому, что смог вспомнить разговор, состоявшийся меньше минуты назад. – А потом ты сказала, что это здание для стариков. Но, честно говоря, мне так не кажется. – Он мне подмигивает.
– Да не для стариков! В стиле рококо, – поправляю я его, чувствуя себя учительницей. – Часовня знаменита изысканной лепниной, украшающей потолок. Это работа французского мастера Бартелеми Крамийона.
– Правда, милая? И когда же он это сделал? – Папа придвигает свой стул вплотную к кровати. Ничего на свете он так не любит, как увлекательные истории.
– В тысяча семьсот шестьдесят втором году. – Точная дата. И я произношу ее так естественно. Но, помилуйте, откуда мне это известно?!
– Так давно? Я не знал, что больница стоит здесь столько времени!
– Она построена в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году, – отвечаю я и хмурюсь. А это я откуда знаю? Но я не могу остановиться, как будто мой рот, совершенно независимо от моего мозга, произносит слова сам по себе. – Здание было спроектировано тем же человеком, который построил Лейнстер-хаус, нынешнюю резиденцию правительства Ирландии. Он был немец, его звали Ричард Касселс, иначе – Ричард Касл. Один из самых знаменитых архитекторов того времени.
– Конечно, я слышал о нем, – врет папа. – Если бы ты сказала «Дик», я бы сразу понял, о ком ты. – Он хихикает.
– Это детище доктора Бартоломью Мосса, – объясняю я и не понимаю, откуда идут эти слова, не знаю, откуда появляется это знание. Ощущение дежа вю: слова знакомы мне, но я никогда не слышала их и не произносила в стенах этой больницы. Может, я просто выдумываю? Нет, где-то глубоко внутри живет убеждение, что я говорю правду. Странное тепло окутывает все мое тело.

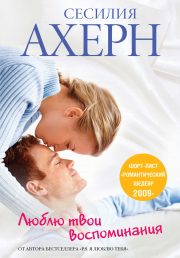
"Люблю твои воспоминания" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю твои воспоминания". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю твои воспоминания" друзьям в соцсетях.