– Ба-ба, – говорит он.
Я хлюпаю носом:
– Ба-бы больше нет, Сэм. Шон, если бы родился мальчик, Грейс, если девочка. – Я вытираю нос.
Сэму не интересны мои слезы, он отворачивается и смотрит на птичку. Снова вытягивает пухлый пальчик.
– Птичка, – говорю я сквозь слезы.
– Ба-ба, – отвечает он.
Я улыбаюсь и вытираю слезы, хотя от этого они текут еще сильнее.
– Но теперь нет ни Шона, ни Грейс. – Я обнимаю его покрепче и даю волю слезам, зная, что Сэм никому не расскажет о моей слабости.
Попрыгав, птичка взлетает и исчезает в небе.
– Нет ба-бы, – говорит Сэм, вытягивая руки ладошками вверх.
Я смотрю, как она улетает вдаль, – пылинка на фоне бледно-голубого неба. Мои слезы высохли.
– Нет ба-бы, – повторяю я.
– Что же изображено на этой картине? – спрашивает Джастин.
Все молча рассматривают слайд.
– Начнем с очевидного. Молодая женщина сидит за столом и мирно пишет письмо. Мы видим, как перо двигается по бумаге. Мы не знаем, кому она пишет, но по ее мягкой улыбке можем предположить, что любимому, а возможно, и любовнику. Голова склонилась над письмом, открывая изящный изгиб шеи…
Сэм снова сидит в коляске и рисует синим карандашом круги или скорее с силой ставит на бумаге точки, так что кусочки грифеля разлетаются во все стороны. Я тоже достаю из сумки ручку и бумагу. Беру в руку перьевую ручку и представляю, что слова Джастина доносятся до меня из здания на той стороне улицы. Мне не нужно видеть «Женщину, пишущую письмо»: после нескольких лет напряженных занятий Джастина в колледже и его работы над книгой она навеки отпечаталась у меня в мозгу. Я начинаю писать.
Когда мне было семнадцать лет и я переживала готическую фазу с волосами, выкрашенными в черный цвет, мертвенно-белым лицом и красными губами, павшими жертвой пирсинга, мама, стараясь наладить со мной отношения, записала нас обеих на занятия по каллиграфии в местной начальной школе. В семь часов вечера по средам.
Мама вычитала в книге, которую с некоторой натяжкой можно было отнести к направлению нью-эйдж и с которой папа не соглашался, что, если родители участвуют в занятиях своих детей, те легче и охотнее идут на контакт и рассказывают о своей жизни, чем когда их принуждают к формальным, напоминающим допрос разговорам, более привычным для папы.
Но это сработало, и хотя, услышав об этих некрутых уроках, я стонала и жаловалась, контакт был налажен, и я ей все выложила. Ну почти все. У нее хватило интуиции, чтобы догадаться об остальном. После этих занятий я еще больше полюбила маму и стала лучше понимать ее как человека и женщину. К тому же я овладела навыками каллиграфии.
Водя ручкой по бумаге и попадая в ритм быстрых взмахов, которым нас учили, я переношусь на те уроки, где я сидела рядом с мамой.
Снова слышу ее голос, вдыхаю ее запах и переживаю наши разговоры, иногда неловкие – ведь мне было семнадцать, – когда мы касались личного, но нам всегда удавалось найти нужные слова, чтобы понять друг друга. Тогда она не могла подобрать для меня лучшего занятия. В нем был ритм, готические корни, оно отвечало духу времени и обладало характером. Стиль письма единообразный, но уникальный. Эти уроки научили меня, что подчинение нормам – не всегда то, что я тогда думала, потому что есть много способов выразить себя в мире с ограничениями, не нарушая их.
Вдруг я отрываю глаза от бумаги и улыбаюсь.
– Тромплёй, – произношу я вслух.
Сэм прекращает стучать карандашом и смотрит на меня с любопытством.
– Что это значит? – спрашивает Кейт.
– Тромплёй – это художественный прием, изображение, создающее у зрителя иллюзию реальности. Этот термин происходит от французского «trompe-l’œil»: «trompe» означает «обманывает», а «l’œil» – «глаз», – поясняет Джастин. – Обман зрения, – говорит он, обводя глазами все лица в зале.
Где же ты?
Глава тридцать четвертая
– И как все прошло? – спрашивает Томас, когда Джастин возвращается в машину после доклада.
– Я видел вас в дальней части зала. Вот вы мне и скажите.
– Ну, я мало разбираюсь в искусстве, а вы здорово сумели рассказать о «Женщине, пишущей письмо».
Джастин улыбается и тянется за очередной бутылкой воды. Он не хочет пить, но вода-то под рукой, и к тому же бесплатная.
– Там впереди сидела одна заноза. – Томас внимательно взглянул на него в зеркало.
– О! Это была вовсе не заноза, а милая пожилая дама. – Джастин улыбнулся, но складка на лбу не разгладилась. – Хотя она мне кого-то напомнила, я даже хотел спросить, нет ли у нее дочери.
– Дочь сидела рядом с ней, разве нет?
– Да, но вспомнилась мне не она. – Он с силой потер лоб. – Все это было так давно… Я не уверен, что узнал бы ее в уличной толпе.
Томас смотрит на него в зеркало внимательно, но с какой-то неловкостью.
Джастин улыбается и качает головой:
– Неважно. Если бы я вам об этом рассказал, вы бы решили, что я сумасшедший.
– Ну и что ты думаешь? – спрашиваю я Кейт – мы гуляем по площади Меррион, и она рассказывает мне о лекции Джастина.
– Что я думаю? – повторяет она, медленно шагая рядом со мной за коляской, где спит Сэм. – Я думаю, что не имеет значения, ел он вчера карпаччо и фенхель или нет, потому что он кажется прекрасным человеком. Я думаю, что вне зависимости от того, по каким причинам ты чувствуешь связь с ним или влечение к нему – это не имеет значения, – ты должна перестать ходить вокруг да около и просто представиться.
Я качаю головой:
– Я не могу этого сделать.
– Почему? Он ведь казался весьма заинтересованным, когда бежал за твоим автобусом или когда увидел тебя на балете. Что изменилось-то?
– Ему теперь не до меня.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
– Откуда? И не ссылайся на гадания по чаинкам на дне твоей чашки.
– Я теперь пью кофе.
– Ты же ненавидишь кофе!
– А он, очевидно, нет.
Она изо всех сил сдерживается, чтобы не сказать резкость, даже в сторону отворачивается.
– Он слишком занят поисками женщины, чью жизнь он спас, я его больше не интересую. У него был записан мой телефон, Кейт, а он так и не позвонил. Ни разу. Ему до такой степени нет до меня дела, что он выбросил листок с моим номером в мусорный контейнер. И не спрашивай, как я об этом узнала!
– Зная тебя, могу предположить, что ты затаилась на дне мусоросборника.
Я молчу.
Кейт вздыхает:
– Долго ты еще собираешься дурью мучиться?
Я пожимаю плечами:
– Не очень.
– А что с работой? Что с Конором?
– Между мной и Конором все кончено. Больше не о чем говорить. Четыре года раздельного проживания, после чего нас разведут. Что до работы, то я уже сообщила, что выйду на следующей неделе, мой ежедневник заполнен встречами, а насчет нашего дома… Черт! – Я поднимаю руку и смотрю на часы. – Мне нужно возвращаться. Через час я показываю дом. – Чмокаю ее в щеку и бегу к ближайшей автобусной остановке.
– Остановите здесь, пожалуйста. – Джастин смотрит из окна машины вверх, на второй этаж, который занимает Центр переливания крови.
– Вы собираетесь сдать кровь? – спрашивает Томас.
– Ни в коем случае! Просто хочу кое-кого навестить. Я недолго. Если вы увидите, что подъезжают полицейские машины, заводите мотор. – Джастин улыбается, но улыбка выглядит довольно жалкой.
В приемной он нервно спрашивает о Саре, и его просят подождать. Вокруг него сидят мужчины и женщины в деловых костюмах, отлучившиеся с работы на обеденный перерыв, читают газеты, ожидая, когда их позовут сдавать кровь.
Джастин придвигается ближе к женщине, листающей журнал рядом с ним, наклоняется, и, когда задает шепотом вопрос, она подпрыгивает от неожиданности.
– Вы уверены, что хотите это сделать?
Все присутствующие опускают газеты и журналы, чтобы взглянуть на него. Он кашляет и смотрит в сторону, делая вид, что говорил не он. На стенах висят плакаты, убеждающие сдавать кровь, фотографии маленьких детей, выживших после лейкемии и других заболеваний.
Он уже прождал полчаса и каждую минуту, нервничая, смотрит на часы: ему нужно успеть на самолет. Когда уходит последний человек, в дверях появляется Сара:
– Джастин!
Она не холодна и не рассержена. Молчалива. Обижена. Это хуже. Он бы предпочел, чтобы она сердилась.
– Сара. – Он встает ей навстречу, неловко приобнимает, целует в одну щеку, в другую, затем почти касается ее губ. Она отстраняется, обрывая этот фарс.
– Я ненадолго, мне нужно успеть на самолет, но я хотел зайти повидаться с тобой. Мы можем поговорить несколько минут?
– Да, конечно. – Она выходит в приемную, садится, руки скрещены на груди.
Он озирается по сторонам:
– А у тебя нет кабинета или чего-то в этом роде?
– Здесь приятно и тихо.
– Где твой кабинет?
Она прищуривается, и он прекращает расспросы и быстро садится рядом с ней.
– Я здесь, чтобы извиниться за свое поведение во время нашей последней встречи и за все, что произошло после. Мне правда очень жаль.
Она кивает, ожидая продолжения.
Черт! Это все, что я заготовил! Думай, думай! Тебе очень жаль и…
– Я не хотел тебя обидеть. В тот день мои мысли были заняты всеми этими сумасшедшими викингами. На самом деле можно сказать, что мои мысли были заняты ими почти каждый день в течение последнего месяца или двух, и м-м… – Думай! – Можно мне сходить в туалет? Если ты не против. Пожалуйста.
Она выглядит немного сбитой с толку, но говорит:
– Конечно. Прямо по коридору в самом конце.
Стоя рядом с домом, перед которым совсем недавно установили табличку «Продается», Линда и ее муж Джо прижимаются носами к окну и заглядывают в гостиную. Меня внезапно охватывает желание защитить дом. И так же внезапно исчезает.
– Джойс? Это ты? – Линда медленно снимает темные очки.

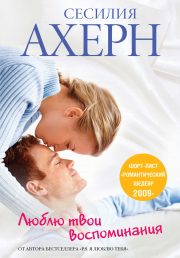
"Люблю твои воспоминания" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю твои воспоминания". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю твои воспоминания" друзьям в соцсетях.