— А я-то думал, он твой старый приятель, — проронил Бобби-мой-мальчик. — Вы что, малость поссорились?
— Герши, — сказал я. — Выслушай меня…
Герши, встревоженная, вскочила на ноги и прижалась к груди Бобби.
— Защити меня, — выдавила она, пряча свое лицо в ворсистой ткани. — Он хочет заставить меня снова выйти на подмостки. Это ростовщик, жид и скотина!
Бобби-мой-мальчик осторожным жестом спрятал Герши сзади себя и нагнулся ко мне. Действительно, таких огромных людей я еще не видел.
— Если Маргерит должна вам деньги, сэр, я их верну, и можете убираться ко всем чертям.
— Я и так ухожу, — ответил я, пытаясь сохранить собственное достоинство, и взял свою шляпу и трость.
— Ну уж нет, — возразил Бобби-мой-мальчик. — Я хочу знать, сэр…
— Ты меня не любишь, Бобби, — поспешно произнесла Герши. — Иначе ты не позволил бы ему ни секунды оставаться у нас в доме после того, как он оскорбил меня.
— Так он оскорбил тебя? — Он извлек из-за себя Герши и нежно посмотрел на нее. — Тогда совсем другое дело, любовь моя. Тогда этому хаму следует задать хорошую взбучку.
— Ты тупоголовый грубиян, у которого вместо рук два окорока, — возмутился я, — а Герши за всю свою жизнь не сказала и слова правды.
— Хватит, — произнес Бобби-мой-мальчик, сжимая огромные кулачищи.
— Бобби! Не надо! Ты убьешь его!
— А как же иначе, — заявил свирепый англичанин. — Все кости переломаю этому наглому лягушонку.
— Ну пожалуйста, — проговорила Герши, дергая его за рукав. — Дорогой! Я хочу, чтобы мы остались вдвоем в нашем маленьком домике. (В «маленьком домике» было пятнадцать комнат и две ванны.) Пусть он уходит. Va t'en! — проговорила она, а потом быстро заговорила на арго. Она желала мне поджариться на сковородке, сказала, что если увидит меня и через сто лет, то это будет слишком рано; чтобы я убирался ко всем чертям; чтоб духу моего тут не было, иначе ее суженый оставит от меня «рожки да ножки».
Пока ее суженый шевелил извилиной, не зная, что ему делать, я бочком двинулся к двери. В ту минуту, когда я взялся за дверную ручку, он стряхнул с себя Герши и кинулся ко мне. Она вскрикнула, я тявкнул словно пекинес, на которого набросился датский дог.
Бобби-мой-мальчик нежно взял меня за шиворот, приподнял над полом и, открыв дверь, разжал пальцы. После этого он отряхнул руки. Если бы я исчез из жизни Герши каким-то иным, более пристойным способом, то, возможно, однажды я бы вернулся к ней.
Но мир тесен, далеко не уйдешь. Когда я вновь обрел самоуважение, мне захотелось позабыть Бобби-моего-мальчика и Герши, которую он, думаю, любил всем сердцем, как и она его. Я был ими сыт по горло. И я решил заняться собственным здоровьем. В Виши я лечил печень, в Сен-Этьен де Бегорри — гайморовы полости, в Вернеле-Бэн — желудочные заболевания. Как бы далеко я ни забирался, Герши словно следовала за мной. От родных Мишеля в Саре я узнал, что Герши была взята на содержание par un duc anglais[86]. В Прадесе один пожилой художник только и говорил о том, как некогда писал ее портрет.
Излечившись от телесных недугов и залечив душевные раны, я вернулся в Париж. Я давно полюбил прекрасную свою родину и готов был хоть всю жизнь исследовать долины Пиренеев или бродить по берегам Роны. Я больше ни разу не покинул Францию по своей воле и, попав в плен, тотчас сбежал. Сбежал не потому, что я смел или дерзок, а потому, что тосковал по дому.
Актеры, с которыми я иногда встречался до войны, спрашивали у меня, где Герши, что с ней, или же сами рассказывали о том, что слышали о ней. Потом кто-то сообщил мне, будто ей предложили на выгодных условиях выступить в Берлине — это случилось в 1913 году. Я обрадовался, что дела у Герши идут на лад, и попытался выкинуть ее из головы.
Начавшаяся война стерла память о ней, как стерла и все остальное. Но в окопах в руках одного «poilu»[87] я увидел газетную вырезку с ее фотографией. Он разглядывал ее, вытаскивая сначала один башмак, потом другой из грязи, в которой увяз. Увидев меня, офицера, он сунул вырезку в карман грязного френча, после чего нехотя откозырял.
В плену я часто вспоминал о ней. Вспоминал об ужинах в ресторане Максима, Хорхера или иных заведениях, где кормили лучше всего. После побега из плена я получил трехнедельный отпуск, а затем, прежде чем вернуться на фронт, отправился поправлять здоровье в Виттель. В Париже меня отыскал низенький упрямый человечек. Это был месье Ляду, сотрудник Deuxième Bureau[88]. Он поинтересовался, что известно капитану Лябогу, герою Франции, о женщине по имени Мата Хари.
XIX
ФРАНЦ. 1912–1913 годы
Я убил Мата Хари в целях самозащиты, из мести, от пресыщения. И еще оттого, что она избегала меня.
Точно большая ручная кошка она подходила ко мне, увертывалась от моей плетки, царапала меня, не выпуская когтей, заставляя меня забыть о своем желании мучить ее. Пружинистой походкой как ни в чем не бывало она разгуливала по клетке, которую я для нее приготовил, превращая мои пороки в насущные потребности. И все же она избегала меня.
Нам не следовало встречаться. Если бы мы не познакомились, то, возможно, оба остались бы живы. Как часто приходит мне в голову эта мысль! Пусть философы рассуждают о неотвратимости того, что предрешено судьбой.
Как бы то ни было, когда из Парижа пришло письмо от герра Хоффера, я вернулся в Берлин и явился в кабинет Гельмута Краузе на Вильгельмштрассе.
Письмо было простым, не шифрованным и не написанным симпатическими чернилами. Были только подчеркнуты некоторые слова. Двойная черта означала, что слово имеет противоположный смысл, одной линией подчеркивались ключевые слова.
— Прочтите, ван Веель, — произнес мой шеф. — Это донесение от почтового ящика Париж 18. Подумайте, как это можно использовать.
— Париж 18? Это Хоффер?
— А откуда вам это известно? — резким голосом спросил Адам фон Рихтер, новый молодой помощник Краузе.
— Когда ван Веель находился в Вене, пришла информация от Хоффера, которую я передал ему. Любопытное совпадение. Вы ничего не забываете, — одобрительно произнес Краузе, обращаясь ко мне. Он и сам ничего не забывал.
Письмо было датировано Днем всех святых 1912 года.
«Дорогой дядя Гельмут, — читал я письмо, написанное размашистым почерком Хоффера. — Вы будете бранить меня за то, что я увлекся такой светской женщиной, как Мата Хари. Я знаю, не такую партию вы желали бы для своего племянника, но как счастлив будет тот мужчина, которого она изберет. Съездите в Берлин — и вы сами в этом убедитесь. В феврале следующего года она будет выступать в театре „Винтергартен“. Она БОГАТА, очаровательна, и, как я надеюсь, со временем ее можно будет убедить вернуться в Париж. На ее приемы ходят все. Бедная дама потеряла близкого РОДСТВЕННИКА и она БЕЗУТЕШНА».
— Пишет какую-то чушь этот Хоффер, — проговорил Адам.
— Ничего подобного, — возразил Гельмут Краузе, пощелкивая по желтым зубам ногтями в пятнах никотина. — Он служил «почтовым ящиком» еще во времена Штибера, это чрезвычайно надежный агент. Он предупредил, что план организовать забастовки на железных дорогах во Франции обречен на провал, в то время как все были уверены, что операция пройдет успешно. А ведь наши наблюдатели были на каждом полустанке. Так что прислушивайтесь к его словам.
— Ну что ж, — произнес я. — Дама на мели, не имеет любовника и может оказаться полезной в Париже, попав в руки нужного человека, в случае войны…
— С началом войны, — поправил меня Адам назидательным тоном, который свойствен лишь прусским юнкерам.
— Она по-прежнему находится в центре внимания и очаровывает всех, — продолжал я, не слушая фон Рихтера. — Кто же этот «близкий родственник» — ее импресарио Лябог или же очередной любовник? — Ленивой походкой я подошел к единственному окну. Кабинет Краузе был тесным и непритязательным, а обстановка — всего два письменных стола, за которыми сидели шеф и его помощник, на первый взгляд занятые изучением нидерландских паспортов. Это было отличным прикрытием для штаб-квартиры разведывательной сети, действовавшей в Голландии.
Краузе улыбнулся, вернее, растянул свои тонкие губы, обнажив редко расставленные резцы, из-за чего он немного пришепетывал.
— Вам и карты в руки, ван Веель.
— Не хотелось бы, сударь. — Мне действительно не хотелось портить сладостное воспоминание. Ведь насилие — это разовое удовольствие. Мне не хотелось дважды получать деньги за любовные объятия с одной и той же женщиной. Хотя деньги Карла, полученные за прядь волос Мата Хари, я давно истратил.
— Доротеенштрассе? — словно раздумывая вслух, проговорил мой шеф, который никогда не придавал значения мнению своих платных агентов.
Я прикинул, стоит ли использовать Мата Хари в публичном доме на Доротеенштрассе, где наши самые хорошенькие проститутки соблазняли мелкую сошку. Например, русских. Нет, в каких бы стесненных обстоятельствах ни находилась Мата Хари, в такое заведение она ни за что не пойдет. Кроме того, она была слишком приметной.
— Нет, сударь, думаю, это не для нее, — осторожно ответил я. Все мы привыкли прислушиваться к словам этого толстенького, со свиными глазками человечка. Он обладал тонкой интуицией и проницательным умом.
— Хорошо. Устроим вам встречу с ней в феврале. Тогда и решите, как использовать ее наилучшим образом. — Он повернулся ко мне спиной, и я увидел три похожие на сосиски складки сала на загривке и покрытые перхотью плечи. — Захватите ван Вееля на выходные дни, фон Рихтер. Я хочу, чтобы вы стали близкими друзьями.
В этих словах приказа, отданного своим аристократическим помощникам, не было иронии. Краузе было совершенно наплевать на то, нравимся мы друг другу или нет. Как истый пруссак, высокомерный фон Рихтер презирал всякого, кто предавал свою родину. В его глазах я был предателем своего отца, голландца. Что касается меня, то я не жаловал хромых, хворых и кривых, а Адам был хилым, страдал язвой желудка и был слеп на один глаз. Непригодный к военной службе, он выполнял иные обязанности. Ему надлежало изобразить из себя моего друга, и он выполнял это распоряжение.

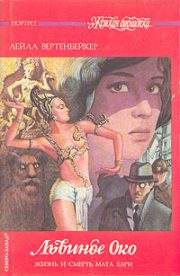
"Львиное Око" отзывы
Отзывы читателей о книге "Львиное Око". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Львиное Око" друзьям в соцсетях.