— Что произошло, скажи на милость? — Я протянул ей платок, и она взяла его.
— До чего же красивый лифт, — проговорила она, сморкаясь.
Номерной, несший багаж Герши, и лифтер изумленно уставились на нее, потом посмотрели кругом, разглядывая стенки клети, в которой мы медленно поднимались.
— Словно в антверпенском «Гранд-Отеле», — объявила, как бы оправдываясь, Герши.
Когда мы остались одни, я посадил ее к себе на колени. Под тяжестью ее тела у меня затрещали кости. Она уткнулась мне лицом в грудь, и за ворот моей сорочки потекли слезы.
— Ну что ты, полно тебе, — говорил я, качая ее большое тело. Я устал. Она вернулась в Париж меньше часа назад, а я чувствовал себя таким же усталым, как и после ее отъезда. Усталость эта накапливалась во мне в течение тех восьми лет, в продолжение которых я выполнял обязанности ее импресарио, друга, папы Луи.
За те три месяца, в течение которых она отсутствовала, я успел вернуться к прежнему, давно забытому образу жизни. Я наслаждался покоем, доставал и разглядывал коллекцию табакерок XVIII века, отправлялся на поиски новых экспонатов. Ряд своих лучших книг я отдал в переплет искусному мастеру своего дела и вновь предался чтению. Хорошая музыка очистила мне душу и восстановила мой талант критика. Посещая один концертный зал за другим, я убедился, что все толкуют о французской музыке, но никто не исполняет произведений французских композиторов, если не считать фривольной музыки Мейербера и Оффенбаха. Часто исполняли Вагнера, которому я тщетно пытался противиться. Я написал очерк для литературного журнала об отталкивающих и притягательных аспектах музыки Вагнера и был страшно горд, когда получил за него ничтожный гонорар.
Итальянцы воевали с турками; в Триполи, куда отправилась Герши, высадились войска. Я вновь задавал себе все те же вопросы. Неужели люди не могут решить споры иным способом, не прибегая к войне? Неужели под ружье встанут гигантские армии европейских государств? Неужели человечество так и не станет хозяином своей судьбы, а обречено навечно повторять циклы расцвета и гибели?
Я воображал себя чрезвычайно проницательным мыслителем и получал наслаждение, участвуя в оживленных дискуссиях на избитые темы. Я создал теорию некоего наднационального правительства, действующего в рамках законности, согласно которой национал-патриотизм, это понятие, несущее уничтожение цивилизации, превратится всего лишь в безобидное, как в спорте, соперничество. Анархисты, синдикалисты, монархисты, иезуиты и марксисты объясняли мне, насколько я наивен и глуп. А в это время в газетах то и дело мелькали названия, звучавшие, как боевой клич: Родос, острова Додеканес, Бенгази, Тобрук.
Однажды я сидел в конторе управляющего, оформляя соглашение относительно концерта Мата Хари после ее возвращения. Еще в 1909 или 1910 году я бы с презрением отверг такого рода условия. Какой ужас — сидеть в качестве просителя там, где я некогда был хозяином. И лгать после краткого периода поисков истины.
— Я бы предпочел сыграть Меркуцио, чем Ромео, — заявил тощий молодой человек своему соседу. Играть он никого не собирался, однако его сосед поднес к его тщеславию треснувшее зеркало.
— Я лично, — изрек он в свою очередь, — нахожу, что в комедии гораздо больше глубины, чем в трагедии.
В конторе управляющего я играл недостойную роль, заведомо лгал, утверждая, что Мата Хари пользуется все той же симпатией со стороны публики. Манипулируя нужными доводами, я добился уступок относительно высоты и ширины букв на ее афишах и небольшой дополнительной суммы на расходы.
Чтобы рассеять чувство мелкого тщеславия, возвращаясь домой, я купил несколько граммофонных пластинок. С помощью новых машин был увековечен голос Карузо. Слушая его, я совсем забыл о том, что мне предстоит аранжировать музыкальное сопровождение для выступления Мата Хари таким образом, чтобы провинциальные музыканты допустили как можно меньше ошибок. Для исполнения какофонической чепухи мы более не содержали собственных музыкантов.
— Луи, ты единственный член семьи, который остался, — прошептала мне на ухо Герши.
— Когда ты уезжала на гастроли, я видел Мишеля, — возразил я, продолжая баюкать ее. — Он передал тебе привет, а жена его приготовила для меня piperade и poulet basquaise[76]. Твоя тезка, Маргарита, очень хорошенькая девочка.
— Она похожа на меня?
— Надеюсь, что нет! Во всяком случае, сомнений в том, кто ее мать, почти не возникает.
Герши засмеялась сквозь слезы.
— И Таллу видел? Как она поживает?
— Судя по величине ее живота, у нее будет двойня. Я обыграл ее «русського» в шахматы, и она разревелась.
У Герши тотчас высохли слезы. Способность Таллы реветь по любому поводу давно стала «семейной» шуткой.
— Ты передал ей привет от меня?
— Как же иначе?
— Поклянись, что будешь любить и лелеять меня до самой моей смерти, Луи! — Она вскочила на ноги, и я размял занемевшие икры.
— Ну, разумеется.
— Нет, нет. — Она топнула ногой. — Дай слово чести! Побожись! На кресте! И я больше не буду плакать.
«Она боится слез», — сказал когда-то Григорий.
— А из-за чего ты ревела? — увильнул я от прямого ответа. Почему я не стал клясться?
— Все правильно, Луи, — ответила она тихо, как-то сразу успокоившись и погрустнев. — Все правильно. К чему клятвы? Я обещала Руди, что буду «любить, почитать и повиноваться ему, пока смерть не разлучит нас». И я не лгала. Бедная Герши. Бедный Руди. Я действительно любила его — год или два, почитала его года два или три и повиновалась года четыре или пять. Не так уж плохо. Но Руди не захотел даже взглянуть на меня.
— Это было ужасно, ангел мой?
— Ведь вспоминается многое, — печально улыбнулась она. — Особенно хорошее. Руди совсем состарился и все-таки снова женится. А мой папа окончательно выжил из ума. Поднял хай, ворвался в суд, где шло дело о разводе, и стал защищать свою «детку Герши». Судья спросил его, разве меня не зовут Мата Хари, но он стал божиться, что нет. На что судья возразил, что мы с ней похожи как две капли воды, только на мне нарядов больше. Папа сказал, что судья говорит гадости о его любимой дочери. Его вывели из зала заседаний, он напился в кабачке через дорогу и стал хвастать, что у него есть дочь, знаменитая Мата Хари, а между тем Бэнду-Луизу присудили Руди. Ты знаешь, мы с Руди обладали совместным правом опекунства, и я собиралась привезти ее в Париж, когда она подрастет. Они сказали, мол, я окажу на нее дурное влияние и все такое. Я ее мать, Луи, de facto или нет, а я не смогла даже отыскать ее. Руди ее куда-то спрятал, а Джинна не захотела мне помочь. Она сказала, будто из-за меня… кто-то… умер. — Проговорив эти слова, Герши застыла.
— Женщина, которую ты убила или якобы убила? — спросил я ее. Когда она созналась и восстановила картину «ритуального убийства» в тот день, у Герши словно отлегло от сердца. Больше она об этом не упоминала.
— Что? Ах, ты об этом.
— Дело в суде не рассматривалось?
— Мы, яванцы, никогда не обращаемся в голландский суд, — машинально проговорила Герши, откинув голову назад. Но на душе у нее было тяжело. — Я больше никому не нужна, Луи. Даже здесь, в Париже. У меня нет дочери. Нет никого. Даже тебя.
— У тебя есть я. И у нас есть контракт. На следующей неделе выступаем в Лионе.
Это известие ее развлекло, и она через силу улыбнулась:
— Любопытно, придут ли Валлоны? Вот было бы забавно.
Мы с ней стали обсуждать программу спектакля и расходы по содержанию пары танцовщиц-индусок. Герши не хотелось выступать в одиночку.
— Чересчур смахивает на «каф-кон», — объяснила она. — Зрители ждут постановку.
— Да ну их к бесу, — возразил я. — Два лишних рта — и никакого барыша.
— Тебя обирают, Луи. Милый, ты стал чересчур уступчив. Может, на этот раз ты возьмешь с собой девочек и откажешься от комиссионных? В следующий раз мне заплатят больше, и ты получишь свое…
Я уже целый год не получал никаких комиссионных и с досадой сказал:
— Когда ты повзрослеешь, Герши? Кроме того, на Балканах началась заваруха, Австрия и Россия грызутся между собой. Того и гляди, разразится всеобщая война.
— Война? Какая еще война?
Все актеры таковы, напомнил я себе. Реальная жизнь — это театр. А весь остальной мир для них не существует. Я объяснил ей, что на Средиземноморье грохочут пушки. Настоящие пушки. Увлекшись, я стал объяснять ей причины конфликта, рассказал об оккупации Марокко французами, по примеру англичан, объявивших Египет своим протекторатом, после чего произошло вторжение итальянцев в Ливию…
— Хватит пудрить мне мозги, — одернула меня Герши. — Война — это дикость. Это все, что я могу сказать. Помнишь сирийца Али Аджи в Стамбуле? Такой красавец, с бородой. А венецианца Даниэле Варе в Вене? Великолепный мужчина, с усиками. Знаешь ли ты, что мужчины, которым нравятся одни и те же женщины, нравятся и друг другу? Странно, но это так. — И она провела по подбородку тыльной стороной руки.
— Poules[77] — защитницы мира, — рассмеялся я. — Любишь меня, люби и моего любовника, то бишь своего ближнего. Вслед за Лессингом ты заявляешь, что патриотизм — это героическая слабость, без которой вполне можно обойтись. Люби женщин враждебной страны вместо того, чтобы эту страну ненавидеть.
— Я говорю о взаимопонимании человеческих сердец, а ты несешь какую-то чепуху, — произнесла Мата Хари, перейдя на самые нижние ноты регистра.
— Что же я сказал плохого? — без всякого сочувствия отвечал я. — Ты сама мне подала идею, как спасти мир.
— Мужчины! — отозвалась Герши, вытирая ладонями слезы. — Скоты, чурбаны! Я плюю на вас.
И она действительно плюнула.
Пошатываясь, я побрел к двери, решив, что оставлю ее. Она кинулась за мной следом и стала ластиться ко мне. Мы с ней выпили, я дал ей список вещей, которые нужно захватить с собой в Лион, и пообещал заменить юбку для одного из костюмов. Мы поцеловались на прощание, и я отправился домой. Но я устал, устал страшно, сами понимаете.

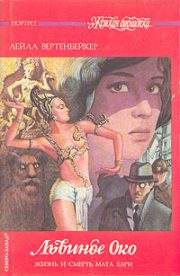
"Львиное Око" отзывы
Отзывы читателей о книге "Львиное Око". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Львиное Око" друзьям в соцсетях.