Однажды, встав из-за стола, он закрыл дверь и поцеловал меня. Когда он попытался просунуть язык между губ, я вспомнила слова Марии и открыла рот с целью задобрить его. Если ему нужно именно это, то пожалуйста, только пусть он оставит меня в покое.
— Боже мой! Боже мой! — воскликнул он, отпрянув. — Фрейлейн Зелле! Уходите! Вы сводите меня с ума!
После того дня он ходил словно потерянный, с темными кругами под глазами. Каждое утро в своем почтовом ящике я находила ужасно бездарные стихи, которые он, по его словам, сочинял по ночам. Он перестал притворяться и начал открыто преследовать меня.
Весь наш мирок сотрясался от урагана его страсти. Я находилась в «глазу» этой бури, оставленная всеми, беспомощная, зато в относительной безопасности. Под каким-то нелепым предлогом директор принудил надзирательницу перевести меня из спального корпуса в темную тесную комнату в здании лазарета. Он заявил своей секретарше, что я «совсем слабенькая», и на этом основании лишил меня прогулок по пятницам. Я не вправе была покидать территорию пансиона. Некоторые преподаватели, из страха перед директором или желая угодить ему, ставили мне завышенные оценки. Иные занижали их. И те и другие были несправедливы ко мне.
Единственным человеком, который обращался со мной нормально, был хромой старик садовник, уроженец Леувардена. Обнаружив меня в оранжерее, доктор Вет уволил беднягу.
Долгое время директор не трогал меня, но потом взял моду останавливать меня в коридоре около моей комнаты. Когда он обнял меня и принялся тискать своими ручищами, я стояла с безучастным видом, но, когда он принялся целовать меня, я поневоле стала отвечать. Он оттолкнул меня, схватившись за свой большой живот, и застонал, словно от боли. Мне стало жаль доктора, я вздохнула и погладила его, но он этого даже не заметил.
Иногда я слышала, как Вет ходит ночью по вестибюлю лазарета. Дверь моей комнаты не запиралась, и я лежала, дрожа от страха, что он может войти, и в то же время едва ли не желала этого.
Выяснилось, что из города приезжал пастор с намерением увидаться с доктором Ветом, что депутация преподавательского состава беседовала со своим начальником. Что там произошло, не знаю, но целую неделю он меня избегал. Я молила Бога, чтобы на этом все и закончилось и чтобы меня не отправили домой. Но я чувствовала себя виноватой и чуточку жалела господина Вета.
Однажды среди ночи я очнулась от глубокого сна и увидела, что он стоит на коленях у моей кровати. Когда я открыла глаза, он приподнял мне голову, начал гладить лицо и говорить что-то бессвязное о том, как он меня любит. О том, что не может жить без меня. Что не в силах бороться с этим чувством. Что я его заворожила.
Я лежала ни жива ни мертва. Войди кто-нибудь в эту минуту — и мы оба пропали. Но когда его руки стали блуждать по моему телу, апатия сменилась гневом.
— Оставьте меня! Вы мне противны! — свирепо прошептала я и, сжав кулаки, принялась несильно бить его по лицу.
Он поднялся с бесстрастным, как у школьного учителя, выражением лица. Я облегченно вздохнула, но тут он принялся срывать с себя одежду.
— Доктор Вет! — Я вскочила на ноги в одной сорочке и закуталась в одеяло. — Уходите отсюда!
— Я тебе ничего не сделаю, деточка, — пробормотал он, лихорадочно пытаясь стащить с себя сюртук. — Обещаю тебе…
Увидев, что я собираюсь закричать, он зажал мне рот ладонью. Мы смотрели друг на друга словно помешанные. В глазах его появилось что-то разумное. Он осмотрел меня с головы с растрепанными волосами до ног, видневшихся из-под ночной сорочки из толстой фланели.
— Ох, — произнес он негромко. — Ох, ох, ох.
Медленно, словно кончики пальцев его обожжены, доктор Вет застегнулся на все пуговицы и провел пятерней по волосам.
— Я хотел только увидеть вас, — произнес он жалобно. Я кивнула головой. Подойдя к двери, он приоткрыл ее и остановился: — Я вел себя как порядочный человек, гм-м?
— О да, — ответила я в истерике, и непрошеный гость ушел прочь.
На следующее утро в своем почтовом ящике я обнаружила записку. Меня вызывали к директору. Когда я вошла, дрожащая от страха и расстроенная, Вет, словно цирковой слон, опустился на колени и стал униженно просить выйти за него замуж. Я сказала, что подумаю. Он заявил, что порядочная девушка вправе это делать. Потом поднялся и, не поднимая глаз, проводил меня до двери.
Придя к себе в комнату, я стала собирать вещи, еще не зная, куда поеду и что стану делать.
В полдень ко мне пришли герр Хердеген, мадемуазель Лебрен и учительница естествознания, приветливая женщина, у которой были взрослые дети. Они оглядели комнату, хотели что-то сказать, но промолчали.
— Вам нужны деньги? — негромко спросил герр Хердеген.
Я кивнула.
Мадемуазель Лебрен протянула мне конверт, на котором было написано: «100 гульденов».
— Мы отправим ваш кофр туда, куда скажете, — произнесла она. — Лучшей ученицы, чем вы, у меня не было.
— Позвольте вам сказать, — продолжала учительница естествознания, — что, по нашему мнению, вы вели себя достойно. Достойно.
— На самом деле я и не собиралась выходить за него замуж, — отозвалась я, внося панику в их расстроенные ряды.
VII
ГЕРШИ. 1894–1895 годы
Поезд рассекал клубы тумана. Забившись в угол, я думала о своей погубленной репутации. Кто примет меня такую? Папа женился на болтливой католичке. Бабушка своей неприязнью отравляла мне жизнь. Воспоминания о веселом дядюшке Пауле, однажды исполнявшем роль Санта-Клауса, стерлись из моей памяти. Возможно, и он такой же бесчувственный и пошлый, как дядя из Снеека. Говорили, что у тети Марии, жены дядюшки Пауля, слабая грудь. Вряд ли они обрадуются, увидев на пороге своего дома такую «крошку», как я?
Я почувствовала слабость, и какая-то монахиня в большом белом чепце дала мне нюхательной соли. Я сделала вид, что вдыхаю, но сама задержала дыхание. По словам провинциалов-протестантов, католические священники, переодетые в монахинь, часто похищали простодушных девочек.
Когда поезд подошел к перрону, я, преодолевая недомогание, с чемоданом в руке, погрузилась в туман. Исчезни я в нем навсегда, кто бы стал меня искать?
— Туман как молоко, — заявил извозчик. — Но вы, барышня, не беспокойтесь. Только скажите, куда вам надо, и я вас мигом домчу. Моя Мимоза бегает быстрее, чем пара лошадей, а берем мы вдвое дешевле. Дайте только на чай, все мои клиенты так делают, хотя это и нарушение закона.
В перчатке у меня был спрятан флорин и тридцать центов, и за корсетом булавкой приколот конверт с сотней гульденов. Убедившись, что деньги при мне, я сообщила извозчику адрес Ганса ван дер Мейлена.
Было так тихо, что у меня гудело в ушах. Мы ехали по улицам Гааги, словно на гондоле, рассекающей облако. Я не видела даже собственных рук, сложенных на коленях. Ехали из никуда в никуда. Туман то сгущался, то редел, как бывает при приближении к парку или водному пространству, и тогда становилось легче дышать.
— Приехали, — объявил извозчик. Мы остановились, и туман вокруг нас закачался.
Я на ощупь перешла дорогу и, поднявшись по ступеням, постучала. Ни звука в ответ. «Должен же кто-то быть дома», — решила я. О порядках, царящих в состоятельных домах, я и слыхом не слыхивала и не знала, что по четвергам их обитатели обедают в ресторане. Забрав деньги, которые я извлекла из перчатки, извозчик поворчал и был таков. Расстроенная, я села на ступеньки, положила голову на колени и обхватила их руками.
В таком положении меня застали дядюшка Ганс и тетя Мария. Они так поразились, увидев меня, что, ни о чем не спрашивая, уложили в постель. Когда я проснулась, сквозь белые портьеры пробивался солнечный свет. Под головой у меня были толстые подушки. Подняв сползшее на пол пуховое одеяло, я натянула его до подбородка.
На каминной доске напротив моей кровати танцевали изящные фарфоровые фигурки в коротких панталонах и кружевных юбках. Три стены были увешаны потемневшими от времени картинами в золоченых рамах, четвертая занята огромным шкафом, куда можно было сложить в три раза больше вещей, чем все мои пожитки. Мне хотелось одного — остаться здесь.
Я стала придумывать, как объяснить мое появление здесь. Маленький Лассам проводил меня в Лейдене до вокзала и пожелал удачи. Если бы в меня влюбился он, а не доктор Вет, все вышло бы иначе. Чем больше я об этом размышляла, тем более естественным это мне казалось. Я прогнала от себя призрак директора, и тотчас в моем воображении возникла изящная фигурка Лассама. Разумеется, когда он влез ко мне в комнату через окно, нас застали врасплох. Его сослали в Малайю, а меня, хотя я и была ни в чем не повинной, исключили из школы… Впервые за много недель я почувствовала себя безгрешной и чуточку возмущенной.
Во время завтрака, со слезами на глазах, я рассказала родственникам свою байку. С той поры дядюшка и тетя называли местных донжуанов «настоящими Лассамами».
— Надо подождать, дитя, а потом видно будет, — сказали они. — Мы еще обсудим эту проблему.
И они ее обсуждали, и еще как! Не слушая друг друга, словно исполняли фугу, без конца повторяя одну и ту же тему. Тетушка на один такт отставала от дядюшки, подхватывая поданную им мысль.
Оставив меня в покое, они переключились на политику и семейные дела.
Дядюшка говорил, что Бисмарк — умелый лоцман, но германский кайзер был прав, отказавшись от его услуг, поскольку отныне воцарятся мир и благоденствие…
А тетушка, вторя своему супругу, говорила о том, какая умелая кухарка была у ее дочери, но дочь, конечно, не напрасно уволила эту Берту…
Дядюшка полагал, что войны отжили свой век. Никто не может позволить себе такую роскошь. Армия, основанная на всеобщей воинской повинности, дескать, чересчур громоздка. Кроме того, умирать должны профессиональные военные, а штатские должны жить.

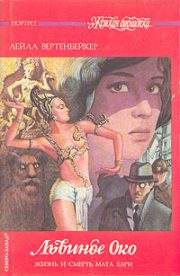
"Львиное Око" отзывы
Отзывы читателей о книге "Львиное Око". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Львиное Око" друзьям в соцсетях.