– Дела у тебя хреновые, приятель. Уже очень скоро накопившаяся злость начнет выплескиваться наружу. Любое происшествие может опрокинуть кипящий котел. Это неминуемо, я совершенно уверен, черт побери! Народ только и ждет, чтобы кто-то неосторожно чихнул, и тогда вся эта ярость вырвется на свободу. – Свистун умолк и облизнул с губ остатки рыбы. – Большие мальчики сразу скажут, что ты их не предупредил, и будут рады переложить всю ответственность на кого-нибудь.
Картонный ящик под Ганом окончательно провалился в грязь, но ему было все равно. Он пожал плечами:
– Я не думаю об этом. Живу одним днем. Мне стоило бы убраться отсюда, но деньги… А если меня поймают, не так уж много они могут со мной сделать такого, чего еще не было сделано.
– Кости тебе переломают, – горестно заметил Свистун.
– Все это мне не в новинку. Когда с этим будет покончено, буду продолжать жить или умирать.
– Ты забыл про страдания в промежутке.
– Ничего я не забыл. – Ган уставился на свои мозолистые руки. – Но я все равно не крыса.
Свистун с трудом встал: суставы его болели и отчаянно хрустели от ревматизма, который обострялся от сырости. Покопавшись в груде вещей, он нашел ржавую консервную банку и достал оттуда старый носок с тяжелым шариком на конце. Он помахал им в воздухе, как маятником.
– Я все откладывал деньги. То там монетку, то сям – где только мог. Тут, правда, немного. – Свистун бросил носок Гану, и тот поймал его на лету. – При первой же опасности забери их. А потом убирайся к чертовой матери, пока они до тебя не добрались.
Ган бросил носок обратно:
– Я не возьму твоих денег, Свистун.
– Какой же ты правильный, черт бы тебя побрал! – отозвался Свистун. – У меня есть семья, целая гурьба девочек, чтобы ухаживать за мной. А у тебя что? – Он потер щетину на подбородке. – Послушай, мне уже недолго осталось. Суставы такие тугие, что все кажется, будто косточки вот-вот переломятся. Ходить и даже пальцами шевелить до того больно, что я уже близок к тому, чтобы хлебнуть крысиного яду, лишь бы прекратить страдания. Единственная причина, по которой я еще на этом свете, – это мои девочки. Если я покончу с собой, это разобьет им сердце. И за это гореть мне в аду. – Он горестно поджал губы. – Мне не нужны эти деньги, Ган. Если эти сукины дети обидят тебя, они обидят и меня. И сломают что-то важное у меня внутри. Ты же знаешь, что девчонки сделали меня мягким, как масло! Так что боли мне и без тебя хватает. – Свистун сунул носок обратно в банку, закрыл ее крышкой и закопал в груду вещей. – Если деньги тебе не понадобятся, они останутся здесь. Но если ты окажешься в беде, возьми их, черт тебя подери! – Для верности он бросил сверху еще кипу старой одежды. – А теперь пойдем. Посмотрим, не играет ли кто-нибудь.
Они вышли из палатки, на ходу поднимая повыше воротники рубашек и поглубже напяливая шляпы. Из большой палатки в квартале австралийцев выплывал и растворялся в воздухе сигаретный дым. Послышался гул голосов, потом резкий вскрик, затем опять глухой гул. Свистун откинул кусок брезента, служивший дверью. Потолок тут был высокий, так что они выпрямились. Дождевая вода капала с них на пол.
– А что, ребята, есть у вас игра? – спросил Свистун.
– Смотря для кого, – ответил дородный мужчина с обветренным лицом. – Деньги-то есть?
Свистун звякнул монетами в кармане.
– Тогда ладно, – кивнул здоровяк. – Присоединяйтесь. – Он сдвинул деревянный ящик, на котором сидел, и скомандовал: – Дайте место старикам!
Все дружно подвинулись.
– Во что играете? – спросил Ган.
– В «мушку» живыми мухами.
Между игроками лежала плоская деревяшка, на которой стояло шесть небольших пирамидок сахара. Все лихорадочно отгоняли круживших вокруг них мух.
– Делайте ваши ставки! – рявкнул здоровяк.
Ган положил монетку напротив четвертой горки. Его примеру последовали остальные: каждый делал свой выбор, и иногда он оказывался одинаковым.
– Ставки сделаны! – прокричал распорядитель. – Три, два, один – стоп!
Все замерли, уставившись на мух. Отвратительная волосатая муха спикировала вниз и сделала круг над сахаром. Все затаили дыхание. Но тут другая муха без раздумий опустилась на вторую горку и принялась есть сладкие гранулы. Трое мужчин оживленно захлопали, а остальные приуныли. Победители протянули руки за своими выигрышами.
– Мухи летят от сточных канав тучами, – сообщил один из собравшихся. – И никто не знает, что они любят больше – сахар или дерьмо, – засмеялся он.
– Вы ведь Свистун и Ган, верно? – дружелюбно спросил распорядитель, раздавая выигрыш. Они кинули. – Я Уинстон. Добро пожаловать к нам! А ты ведь тут новенький, так? – спросил он у Гана.
– Ну, новичком я себя не чувствую, – ответил Ган, доставая вторую монетку. – Я проработал на рудниках бóльшую часть жизни. И один день не слишком отличался от другого.
– Это правда, – согласно кивнул Уинстон. – А почему вы, ребята, живете среди этих вонючих итальяшек? Вам бы место в нашем крыле.
Свистун бросил на Гана красноречивый взгляд: «Я же тебе говорил…» Он немного помолчал и ответил:
– Там одна женщина подкармливает нас. Чертовски вкусно готовит. И это единственная причина. Такие старые пердуны, как мы, нуждаются в горячей пище.
Уинстон понимающе нахмурился:
– Тогда будьте осторожны. Тот народ не моет руки. И ест там же, где и гадит. – Со стороны игроков, размахивающих руками над столом, послышался одобрительный ропот. – Все, последняя игра! Делайте ставки!
Глава 51
Непрерывный поток через их поместье был ожидаем: сезонные рабочие с пожитками в узелке на конце закинутой на плечо палки; старатели с покрытыми шрамами мозолистыми руками и пустыми карманами; безработные скотоводы, прикрывавшие унизительность своего положения грубой речью. Чтобы справиться о своих потерянных друзьях, заходили ветераны, покалеченные и сентиментальные, в их глазах застыл шок от увиденного на войне. Кто бы и откуда ни приходил, все просили хоть что-нибудь поесть. Большинство вскоре, стирая в кровь ноги, продолжали свой нелегкий путь, другие укладывались вздремнуть в тени большого эвкалипта.
Еду и воду им подавали всегда – таков первый закон буша. По большей части это были честные, вежливые, трудолюбивые парни, переживавшие трудные времена. Большинство шло с запада или севера и направлялось дальше в поисках работы на шахтах или полях. В этой малообжитой местности криминальные элементы попадались редко, предпочитая скрытность и темные улочки городских трущоб.
И только когда вглубь территории ворвалась буря, затопив русла ручьев и превратив улицы в реки, поток путников приостановился. В ту неделю и в несколько последующих казалось, что жизнь вокруг Ванйарри-Даунс вымерла. Но как только вода спала, оставив на подсохшей земле шрамы промоин и вымытые борозды, бродяги появились снова – как неистребимые термиты на гнилом дереве.
Однако произошли некоторые перемены. Леонора заметила, что теперь уже больше людей шло с юга. Глаза у них были более пустыми, чем до дождей, а лица – нездорового землистого цвета. Когда она раздавала им пироги с бараниной и персики, когда наполняла котелки родниковой водой, ей хотелось спросить, откуда они и куда идут, но она этого не делала. Что-то подсказывало ей, что подобные разговоры их не интересуют, – как, впрочем, похоже, не интересовало и все остальное.
За все время, что она жила на ферме, к их порогу ни разу не приходила женщина. Несколько она раз видела женщин, которые сидели на подводах или убаюкивали плачущего младенца, но те всегда оставались на заднем плане, никогда не поднимали глаза на дом и не присоединялись к мужьям на веранде. Поэтому Леонора чрезвычайно удивилась, когда, в разгар жары, открыв на стук, увидела женщину, державшую за руки двух маленьких чумазых мальчишек.
Женщина избегала смотреть ей в глаза.
– Извините нас за беспокойство, мисс, – смущенно сказала она. – Я хотела спросить, не найдется ли у вас чего-нибудь поесть для моих деток.
Леонора ответила быстро, возможно, даже слишком:
– Конечно. Заходите в дом, пожалуйста.
Дети шагнули вперед, но мать удержала их:
– Мы не хотели бы доставлять вам беспокойство. Если вам все равно, мы бы просто взяли еду и пошли.
Мальчишки с несчастным видом уставились на свои протертые до дыр туфли, из которых торчали грязные пальцы.
– Прошу вас, – настаивала Леонора. – Никакого беспокойства нет. Наоборот, мне веселее в компании. У нас сейчас тушится жаркое, но оно не совсем еще готово.
Мальчики с надеждой подняли на мать глаза, в которых ясно читался голод. Она вздохнула и сдалась:
– Но только ненадолго, а потом мы сразу пойдем. Мы не хотим быть вам в тягость, мисс.
Оказавшись внутри, дети с открытыми от удивления ртами рассматривали просторные комнаты, высокие потолки и богатую обстановку. Мать откашлялась, чтобы привлечь их внимание, и кивком головы отдала безмолвную команду, после чего те быстро сняли шляпы, смахнув на пол рыжую пыль и мертвых мух.
– Боже мой, мальчики! – недовольно зашипела на них мать.
Леонора рассмеялась:
– Да все в порядке. Мой муж оставляет пыльный след по всему дому. – Она подошла к дверям в кухню и окликнула кухарку: – Мередит, как там наше жаркое?
– Уже готово, можно подавать.
– Подавай. У меня к обеду гости. – Она ободряюще улыбнулась мальчикам, которые просияли, услышав, как она их назвала. – Мне понадобится еще три тарелки и много-много хлеба с маслом.
Они вчетвером сидели за накрытым белой скатертью обеденным столом, который был настолько высок для мальчиков, что их головы едва виднелись. Их мать испытывала такую неловкость, что Леонора подумала, не было ли жестокостью приглашать их в дом. Ей было хорошо известно, как австралийцы относятся к подаяниям, в особенности женщины.
Мередит, принеся жаркое на блюдах, окинула новые лица удивленным взглядом. Мальчишки накинулись на булочки и вымокали ими горячую подливу, не дав ей хоть немного остыть. Женщина повернулась к Леоноре лицом, каждая складка которого была оттенена пылью. Ей легко можно было дать как двадцать лет, так и пятьдесят.

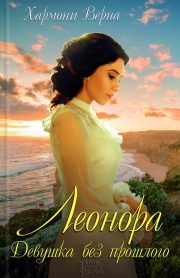
"Леонора. Девушка без прошлого" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леонора. Девушка без прошлого". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леонора. Девушка без прошлого" друзьям в соцсетях.