– Она не может заставить меня сделать это, Алекс.
– Возможно, и не может, зато она может добиться того, чтобы вас выгнали. – Уголки его губ приподнялись в недоброй усмешке. – Ваши дядя и тетя вложили сюда столько денег, что тут сделают все, что они пожелают. Что, в конце концов, значит судьба одного волонтера по сравнению с новым крылом больницы?
Снова оковы ее имени, ее семейного положения впивались в тело, отбирая свободу и душа Леонору. Она вглядывалась в красивое лицо Алекса в поисках хотя бы намека на понимание или сочувствие, но глаза его были пусты. Она отвернулась, и взгляд ее упал на акварель на стене. Ход времени замедлился, а шум госпиталя стих. На картине было изображено буйство морских волн, идеально синее небо и отвесные скалы, поднявшиеся, казалось, из глубин земли в древнейшие времена. Душа наполнилась теплом, и на короткий миг Леонора оказалась там – сидела, свесив ноги с обрыва, рядом с другом, который всегда прогонял от нее демонов.
Алекс дернул ее за руку:
– Вы слышали хоть слово из того, что я только что сказал?
И время потекло в прежнем ритме, а тишина заполнилась звуками. Картина на стене превратилась в любительскую копию пастельного пейзажа, и Леонора отмела в сторону воспоминания, загнала свою боль в кончики пальцев и крепко сжала кулаки. Потом посмотрела на медсестер и больных, двигавшихся по коридору. Госпиталь – это все, что было у нее в этом мире, но ультиматум Алекса не оставлял выбора. И она смирилась.
– Когда мы едем?
Глава 33
Шелби приняли Джеймса в свою семью и свой дом так, будто он здесь родился. О жестоком обращении Шеймуса никто не вспоминал: не было ни жалости, ни слов утешения, ни вопросов. По сравнению с добротой и теплом Шелби знаменитое гостеприимство жителей буша казалось просто снобизмом. А Джеймс, в свою очередь, отплачивал им тем единственным, что у него было, – трудолюбием.
Каждое утро Джеймс, Том, Джон и Уилл отправлялись к загону для скота. Все были накормлены завтраком миссис Шелби, у всех рукава были опущены, чтобы защититься от обжигающего рассветного холода. Даже для четырех пар крепких рук работы было слишком много, но они редко нанимали кого-то в помощь и могли позволить себе это только в самые напряженные моменты – во время стрижки овец и сбора урожая. Каждый вечер они возвращались домой рыжие от пыли, грязные и пропахшие овцами, травой или шерстью – в зависимости от того, чем пришлось заниматься днем. Работа здесь была такой же тяжелой, как и у Шеймуса, но сопровождалась она постоянными шутками и хохотом, так что бока у Джеймса болели больше от смеха, чем от напряженного труда.
Рядом с парнями Шелби Джеймс научился отваживать динго и кроликов с помощью ружья или ловушек, а также кастрировать и клеймить бычков. Усилием воли он заставлял себя выполнять все это, но быстро понял, что такие жестокие занятия ему не по душе и даже ненавистны. А после едких подшучиваний со стороны братьев твердо решил, что больше никогда этого делать не будет.
Взамен Джеймс взял на себя уход за скотом – занятие, которое для парней Шелби было столь же ненавистным, как для него клеймение. То, что раньше делали братья втроем, сейчас Джеймс выполнял один. Прекрасный мастер езды как в седле, так и без седла, он, управляя конем прикосновением колена или натягиванием уздечки, мог направить его, вопреки инстинктам, прямо в кольцо разъяренных быков, даже не касаясь шпорами боков.
Джеймс приручал свирепых собак, местных беспородных дворняг, в крови которых было больше от диких динго, чем от овчарок, и они повсюду следовали за хозяином, готовые подчиниться его кивку или движению бровей. А взамен после дня тяжелого труда в загонах он щедро дарил им свою любовь, так что псы вились у его ног и громко, неистово скулили от восторга.
Еще одним любимым его орудием стал кнут. Он висел свернутым в кольца на бедре и мог взметнуться мгновенно, со скоростью языка ящерицы. Но Джеймс использовал его для предупреждения, а не наказания: звук щелчка был страшнее, чем удар, поэтому пастух мог развернуть бычков или овец без того, чтобы хлестать их. Так он и работал на самых дальних загонах, по ходу дела ремонтируя ограды и перегоняя скот с одного пастбища на другое.
Джеймс любил землю, простиравшуюся под его ногами и копытами его коня, землю, казавшуюся бесконечной и уходившей за горизонт. В редкой тени эвкалиптовых рощ, словно украшения, сидели на ветках зеленые и желтые попугаи. На просторах ржавого цвета пустыни носились стада рыжих кенгуру ростом с человека, которые жевали листья и облизывали лапы, чтобы охладиться. На этой земле, сохранившейся в первозданной чистоте, бурлила жизнь.
Когда жаркий день клонился к вечеру, он раздевался у одной из глубоких заток и плавал из конца в конец. Лежа на воде, которая холодила ему спину, в то время как солнце пекло грудь, он следил за тем, как со скал, поднимая рябь, соскальзывают утконосы. После купания он надевал на голое тело одежду, успевшую пропечься на камнях, и тело мгновенно высыхало.
За лесом раскинулась степь с травой до пояса, на которой с большим удовольствием паслись его стада. Он проводил ночи под открытым небом, в спальном мешке, брошенном на голую землю. Засыпая, он уплывал к звездам и чувствовал себя здесь дома в большей степени, чем в построенном из камня или дерева жилище.
За все эти годы Джеймс ни разу не видел Шеймуса и старался не думать об этом человеке с помрачившимся от отчаяния рассудком. Миссис Шелби, святая всепрощающая душа, раз в неделю оставляла еду на его крыльце, ничуть не заботясь о том, будет ли она принята, а Том забрал их лошадь, опасаясь, что она умрет с голоду. Шеймус стал своего рода привидением, и только соседи иногда видели, как он плелся пьяный из паба домой или спал в придорожной канаве.
– Где это видано, чтобы человек спивался так быстро? – говорили одни, а другие отвечали: – Видно, ирландцы должны топить горе в выпивке.
Джеймс сгорал от стыда, ловя на себе жалостливые взгляды.
Со временем он приспособился к неудобному дивану Шелби, с которого свешивались его длинные ноги. Как-то ночью, когда он спал после тяжелого дня, что-то коснулось его руки – соломинка или, может быть, веточка. Застонав, он оттолкнул ее.
– Джеймси, – позвал голос из темноты.
Джеймс вздрогнул:
– Шарлотта? Что ты здесь делаешь?
Маленькая девочка всхлипнула.
Джеймс протянул к ней руку:
– Что случилось?
– Я… Мне приснился с-страшный сон, – запинаясь, протянула она.
Джеймс нашел платок и вытер ей нос.
– Можно я… побуду с тобой? – спросила малышка и снова заплакала.
Джеймс посадил ее к себе на колени и обнял за плечи.
– Конечно, можно. – Он поцеловал ее в макушку. – Не хочешь рассказать свой сон?
Шарлотта замотала головой и прислонилась головой к его плечу, содрогаясь от сдерживаемых рыданий. Джеймс погладил ее по руке.
– А у тебя… тебе когда-нибудь снились страшные сны? – спросила она.
– Бывало.
– А что ты делал, чтобы их прогнать?
Джеймс подумал немного и снова поцеловал ее в голову.
– Я старался думать о счастливых временах. О хороших днях, о красивых местах… В общем, всякое такое.
Шарлотта посмотрела на него. Ее мокрые широко открытые глаза округлились.
– Какие, например?
Он улыбнулся:
– Я думал о море.
– Расскажи мне о нем, – улыбнулась девочка. – Ну пожалуйста.
– Ну хорошо, – начал он. – Есть такое место не очень далеко отсюда, где земля встречается с морем. Скалы, такие же высокие и золотистые, как самые настоящие горы, поднимаются там, казалось бы, прямо из океана, как будто великан взял и откусил кусок Австралии. Море там синее, как небо, и почти такое же огромное. – Он на мгновение закрыл глаза. – А когда солнце светит на воду, она похожа на поле, усеянное алмазами, которые сверкают одновременно. Это очень красивая картина, Шарлотта. Почти такая же красивая, как ты.
Джеймс шутливо ущипнул ее за подбородок, и девочка засмеялась.
– Я никогда не была на море, – сказала она.
– Я как-нибудь отвезу тебя туда. Обещаю.
Ее личико стало вдруг серьезным:
– Ты ведь будешь с нами всегда, правда, Джеймси?
– Пока буду жив.
На щеках ее появились ямочки. Джеймс погладил ее по плечу и тихонько покачивал, пока она не заснула. Тогда он снял руку, обнимавшую его за шею, положил Шарлотту на свой диван и укрыл одеялом, а сам, прихватив подушку, ушел в комнату Тома. Он долго ворочался на твердых досках и сам не заметил, как провалился в сон. Но вот половицы под ним задрожали, и он открыл глаза. Было еще тепло.
– Подъем, дамы!
Джон толкнул его носком ботинка. Джеймс отвернулся и спрятал голову под подушку.
Джон направился к Тому и сдернул с него лоскутное одеяло. Том приподнял голову, волосы на которой торчали в разные стороны, и снова натянул одеяло на себя.
– Отвали!
– Пошевеливайтесь. Мама хочет, чтобы мы с Уиллом отвезли пшеницу на весовую.
– А мы вам зачем? – проворчал Том.
– Ты же знаешь, что они платят больше, когда приезжает пара симпатичных девчонок! – поддразнил он.
– Перестань валять дурака! Зачем нам туда ехать?
– Вам с Джеймсом нужно забрать новую упряжь. Вчера прибыла по железной дороге. – Тон его стал серьезным. – Мы с Уиллом позаботимся о пшенице, а вы после присоединитесь к нам. Выезжать нужно прямо сейчас, иначе возвращаться придется в темноте.
Том спустил ноги с кровати и почесал макушку. Джеймс поднялся с пола и потянулся – в спине у него что-то хрустнуло.
– Ах да! И надень то маленькое розовое платьице с бантиками. Оно так идет к цвету твоих глаз! – засмеялся Джон, увернувшись от подушки, полетевшей ему в голову.
Джеймс быстро переоделся и щелкнул подтяжками. Том все еще ворчал, когда они выходили на улицу. Уилл с Джоном уже запрягли лошадей. Солнце только-только начало появляться над горизонтом, и утренний воздух был холодным. Один за другим они цепляли тюки с пшеницей крюками и укладывали их на подводу. Работа была тяжелая, пыль забивала глаза и нос. Но вот последний тюк был уложен, и Джеймс вытер лицо краем рубашки. Уилл принес веревки, и они закрепили ими груз.

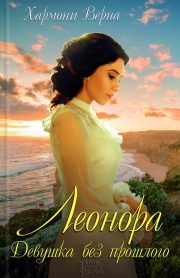
"Леонора. Девушка без прошлого" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леонора. Девушка без прошлого". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леонора. Девушка без прошлого" друзьям в соцсетях.