– Поздравляю.
– Я здесь, чтобы вас предостеречь, Лё Галль. Вы снова устраиваете саботаж, я этого так не оставлю. Берегитесь, я вас предупреждаю.
– Господин штандартенфюрер, я делаю всё, что…
– Оставьте эту болтовню. Разумеется, вы слишком трусливы для настоящего саботажа, вы лишь слегка играете в движение Сопротивления, от этого никому ни холодно, ни жарко. Вы хотите, чтобы ваша совесть была спокойна, поэтому специально делаете ошибки, как школьник. Я бы на вашем месте постыдился.
– Господин штандартенфюрер, позвольте мне быть с вами откровенным.
– Пожалуйста.
– Я бы на вашем месте тоже постыдился.
– Ах да?
– Вы приходите и строите из себя сильного мужчину, зная, что за вами надёжное прикрытие танков и гранат.
– Но за мной и в самом деле танки и гранаты.
– Если бы вы были на моём месте, а я на вашем…
– Как знать, Лё Галль. Факт тот, что прошлой осенью, когда вы натерпелись страху за свою дочурку, норма допущенных вами ошибок снизилась до восьми процентов. И вот прошла пара месяцев, девчонка писается, видимо, лишь через раз, и вы опять за своё, позволяете себе уже четырнадцать процентов.
– Я не нарочно…
– Молчать! Хватит разглагольствовать. Это ещё не семьдесят три процента, но всё к тому идёт. Раз уж зашла речь: чем вам помешала эта лампа? Что она вам сделала?
– Лампа как лампа.
– Вам не нравится, что он от Сименса, так?
– У меня чувствительные глаза, яркий свет меня слепит. Старая лампа…
– Молчать! Лампа будет стоять где стоит. Это моё последнее предупреждение.
Кнохен вздохнул и закинул сапоги на стол.
– Господин штандартенфюрер, позвольте задать вам один вопрос.
– Что?
– Почему я?
– Что «почему вы»?
– Я единственный здесь, кого вы снабжаете новой лампой и кофе.
– Вы что, проводили опрос?
– Почему я, господин штандартенфюрер?
– Потому что вы единственный, кто делает эти глупости.
– На всей набережной Орфевр?
– Вы единственный из пятисот служащих, кто строит из себя героя. А сейчас сделайте мне кофе, я устал. Крепкий, если можно.
– Как вам будет угодно…
– Прямо сейчас.
– Через фильтр или мокко?
– Мокко. Оставьте меня в покое с вашими военными помоями. И возьмите кофеварку, а не этот вашу несчастную фильтрашку.
– Да вот только…
– Что?
– Тот кофе Мокко, что мне доставляют по вашему приказу, не помолот.
– И что?
– Здесь нет кофемолки.
– Так воспользуйтесь ступкой, чёрт возьми! Такого-то добра у вас должно хватать, это же, в конце концов, лаборатория. И оставьте вы, наконец, ваши женские интрижки.
Штандартенфюрер наблюдал за тем, как Леон открыл шкаф. На верхней полке аккуратно в ряд стояли две или три дюжины круглых чёрно-бело-красных банок кофе. Штандартенфюрер вздохнул и покачал головой, потом сцепил руки на затылке и стал смотреть поверх своих сапог в окно.
Леон растолок горсть кофейных зёрен в ступе, залил воду в основание кофеварки, а кофе засыпал во вставную воронку, навинтил верхнюю часть кофеварки на нижнюю и поставил на горелку, открыл газ и чиркнул спичкой. Пока вода нагревалась, он приготовил блюдца, чашки и ложечки и поставил на стол сахарницу. Закончив со всем этим, ему больше ничего не оставалось делать, и он подошёл ко второму, дальнему окну и стал смотреть на Сену, которая равнодушно текла мимо острова Сите как и сто или сто тысяч лет назад. Иногда он чувствовал на себе взгляд Кнохена, а иногда и сам искоса наблюдал за штандартенфюрером. Прошла целая вечность, прежде чем кофеварка заклокотала через подъёмную трубку.
Когда Леон наливал кофе, Кнохен убрал сапоги со стола, подпёр подбородок правой рукой и разглядывал Леона. Потом сказал:
– Мне жаль вас, Лё Галль. Лучшие всегда непокорны, как показывает история даже на самый поверхностный взгляд. Именно непокорность отличает особенных от обычных, не так ли? Но, к сожалению, мы оба живём не в истории, а здесь и сейчас, и настоящее показывает: то, что в историческом плане, возможно, и представляется значимым, чаще всего, к сожалению, просто банально. Мы здесь не для того, чтобы делать историю, а для того, чтобы копировать эти проклятые карточки. И поэтому вы меня сейчас послушаетесь и больше не будете делать ошибок, и проклятая лампа останется на вашем письменном столе, именно на этом месте и ни на каком другом, и вы её не сдвинете даже на десять сантиметров, не испросив на то моего разрешения. Вы меня поняли?
– Да.
– Эта лампа от Сименса, Лё Галль, привыкните к этому. Она останется стоять именно на этом месте, и вы будете ею пользоваться. Вы будете каждый день включать её, приходя на работу, и выключать, возвращаясь домой. Понятно?
– Да.
– Хорошо. А сейчас садитесь и пейте со мной кофе.
– Как вам будет угодно.
– Так точно, мне так угодно. И ещё мне угодно, чтобы отныне вы пили мокко каждый день. Что вы имеете против мокко? Вам не нравится вкус?
– Вкус, конечно же, отменный.
– В ближайшее время, Лё Галль, вам придётся пить чертовски много мокко, чтобы наверстать невыпитое. К тому же бунтовать больше не имеет смысла, мы скоро закончим с переписыванием.
Двое мужчин молча допили кофе, потом Кнохен встал, слегка кивнул на прощанье и ушёл. Леон убрал чашки в раковину, поразмыслил немного и ту, из которой пил штандартенфюрер, выбросил в урну.
Три дня Леон думал, как ему избавиться от мокко. Итальянскую кофеварку и чашку он оставил немытыми возле горелки, чтобы в случае чего притвориться, что свой ежедневный мокко он уже выпил; на самом деле, он продолжал пить свои отдающие дровами военные помои.
Когда в следующий понедельник на его столе снова лежала очередная пачка кофе на неделю, он положил её в портфель и вечером отнёс домой.
– Что это? – спросила Ивонна.
– Немецкий мокко, я тебе про него рассказывал.
– Убери эту дрянь из дома.
– Ты не хочешь…
– Убери, я тебе говорю. Не хочу.
– И что мне, по-твоему, с этим делать?
– Иди на улицу дю Жур, за крытым рынком. Там есть постоялый двор «Бо нуар», спроси месьё Рено. Он отведёт тебя к одному шапочнику на улицу Вольтера, тот хорошо тебе заплатит за этот кофе.
– А что мне делать с деньгами?
– Нам они не нужны.
– Тогда я отнесу их в лабораторию.
– Распорядись ими по-умному.
– Мне уже кое-то пришло в голову.
– Ничего мне об этом не рассказывай. Никому ничего об этом не рассказывай. Лучше, если никто не будет об этом знать.
Леон получил за двести пятьдесят граммов кофе пачку банкнот, которая приближалась к половине его месячной зарплаты. А поскольку он теперь каждый понедельник ехал на улицу Вольтер и, чтобы поскорее сократить запасы, накопленные в шкафу, брал собой сразу две пачки, ящик его стола, запираемый на ключ, быстро наполнялся деньгами.
Леон не считал их. Он с ними не играл, не связывал их пачками, не вёл учётных записей и никогда не проверял, всё ли на месте – он даже не смотрел на них. Только раз в неделю открывал выдвижной ящик, возвращаясь с улицы Вольтера. Он бросал туда новые купюры, снова закрывал ящик, а ключ открыто держал в бакелитовой подставке с карандашами и ластиком, поскольку на таком видном месте его точно никто не найдёт.
Долгое время Леон понятия не имел, что делать с этим богатством, которое штандартенфюрер Кнохен, так сказать, навязал ему с пистолетом у виска. Он лишь твёрдо знал, что не унизится до того, чтобы использовать это к собственной выгоде. Ему также было ясно, что необходимо найти способы, как распределить эти деньги между людьми, ведь на второй год войны на всей набережной Орфевр не осталось больше ни одного служащего, который не нуждался бы в добавке на то, чтобы купить на чёрном рынке кусок мяса, детские башмаки или бутылку красного вина.
Вопрос был, через какие каналы пустить эти деньги. Если он будет открыто ходить по кабинетам и лично раздавать их коллегам, слух дойдёт до Кнохена, и его посадят за воровство, скупку краденного, служебное неповиновение и попытку саботажа. А если он тайно будет рассовывать купюры по карманам пальто, почтовым ящикам и столам коллег, сознательные сотрудники отнесут деньги начальникам и потребуют расследовать, что за неизвестный пытается их подкупить.
Поэтому Леон отверг мысль о массовом распределении средств и стал рассматривать точечные меры. В следственном отделе служил писарем некто Хайнцер, чьё эльзасское адвокатское удостоверение с 1918 года больше не признавалось действительным. Он жил в сырой трёхкомнатной квартире за Бастилией с шестью детьми, туберкулёзной женой и сестрой-алкоголичкой по имени Ирмгард, которая ни слова не говорила по-французски и годами скрывалась у него без регистрации; при этом он посылал деньги старику отцу, который со своими пятью овцами и тремя курами всё ещё жил в той покосившейся усадебке между Озенбахом и Вассербургом, где их семья хозяйствовала два столетия.
Хайнцер ходил сгорбившись, волосы его, как перья, нависали над ушами, а запах изо рта можно было почувствовать за несколько метров. Вдобавок все на набережной Орфевр звали его Бошем, немчурой, потому что он был высокий блондин и не мог избавиться от эльзасского акцента, и ещё у него был злой начальник по имени Лямуш, который любил при всех дёрнуть его за серый воротничок рубашки или ткнуть карандашом в прохудившийся рукав его пиджака. Но поскольку Бош всё это выносил с достоинством, как и язву желудка, кариозные зубы и свои стёртые межпозвоночные диски, те из секретарш, что почувствительнее, провожали его ободряющими взглядами; но ближе подходить к нему, как магнитом притягивающему несчастье, бедность и болезни, они всё-таки не хотели.

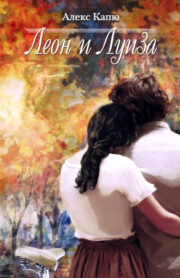
"Леон и Луиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леон и Луиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леон и Луиза" друзьям в соцсетях.