Леон быстро отодвинулся на стуле и хотел встать, но тут Кнохен схватил его за плечо и придавил его обратно к стулу.
– Без спешки, месьё Лё Галль, не волнуйтесь. Самое лучшее, если мы предоставим всё естественному ходу вещей и установленному порядку, не так ли? Сначала работа, а потом уже частная жизнь. Вам ещё осталось два часа прилежной письменной работы, а потом обед, и вы отправитесь на улицу Лёжон. Директор, должно быть, узколобый идиот, позволю себе сказать. Если он не захочет выпустить вашу дочку из угольного подвала, передайте ему привет от хауптштурмфюрера Кнохена, это должно оказать своё действие. До свидания, месьё, и радостной работы! Желаю вам приятного дня!
ГЛАВА 15
Потом пришла зима 1940–1941 года, и в Париже стало холодно. Летом переход на немецкое время подарил французам долгие, светлые вечера, когда солнце садилось только после десяти часов и даже в полночь последние полоски дневного света всё ещё тлели на горизонте. Но сейчас они расплачивались за это, поскольку рабочие дни начинались среди ночи. Леон вставал затемно и брился при бледном свете лампочки; во время завтрака он мог видеть своё отражение в тёмном окне, а когда шёл на работу, на небе мерцали звёзды, как будто это было не раннее утро, а уже снова вечер.
В том, что касалось работы на набережной Орфевр, этой зимой Леону стало ясно, что право превратилось в несправедливость, а несправедливость – в закон; сброд стал новым высшим классом, а законы писались мошенниками. В коридорах служащие шёпотом рассказывали друг другу последние новости о самых знаменитых бандитах Парижа – «Пьеро-Чемодан», «Злой Франсуа» или «Ритон-Пожар», которые обменяли свои тюремные сроки в десять, пятнадцать или двадцать лет на свободу, автомобили и горючее к ним, а также на огнестрельное оружие и немецкие полицейские удостоверения. Дело ещё не дошло до того, чтобы они заявились средь бела дня на набережную Орфевр, чтобы арестовать тех полицейских, которым они были обязаны своими сроками, но все понимали, что ждать этого осталось недолго.
И хотя сейчас Леону было только на руку то, что он делал свою работу анонимно, без связи с внешним миром, тем не менее, каждое утро, проходя по лестничной клетке мимо разных департаментов, он нутром чуял опасность, и ему было ясно, что любой коллега, любая секретарша, любой вахтёр мог оказаться приспешником бандита и убийцей. Выхода из этого положения он не видел. Поэтому забивался в свою лабораторию, делал свою работу и тщательно избегал любых необязательных встреч.
Уже в ноябре обширный циклон принёс в город сибирский холод. Бензин и дизельное топливо стали дефицитом, по улицам теперь ездили только велосипедисты, рикши и извозчики, а если проезжал автомобиль, можно было не сомневаться, что за рулём сидит либо немец, либо коллаборационист. Больше всего бросалась в глаза тишина на улицах и холодное молчание людей. Смолк уличный шум прежних дней, теперь можно было услышать лишь скрип торопливых шагов по мёрзлому снегу, да иногда кашель, быстрое приветствие или унылые призывы разносчиков газет, которые уже давно не верили, что смогут продать свои надиктованные немцами листки.
Очереди беззвучно стояли у магазинов, а полицейский на углу делал вид, что его вообще там нет. Люди набивались в кафе – в тепло кофеварок и ярких ликёрных бутылок, большинство из которых были запрещены, и молчаливо разглядывали пожелтевший рекламный календарь мартини и листок с законом о запрете публичного распития спиртных напитков; многие лица простуженно блестели или рдели покрасневшими носами, большинство не снимало шапок, шерстяных шарфов и перчаток, и весь их вид говорил о том, что они сбежали из квартир, где вряд ли было теплее, чем на улице.
Лё Галли ложились спать в длинных чулках, перчатках и шерстяных свитерах, а рано утром соскребали с оконных стёкол иней от своего дыхания. Леон от случая к случаю приносил домой вязанку дров, раздобытых на чёрном рынке, тогда они сидели вечером в гостиной у камина и от непривычного тепла засыпали прямо тут – кто на диване, кто в кресле или на персидском ковре; далеко за полночь, когда дрова прогорали и холод сквозь щели и трещины вновь забивался в дом, Ивонна и Леон переносили детей одного за другим в кровати.
В одну из таких ночей они зачали своего маленького последыша Филиппа, которому, в свою очередь, двадцатью годами позже, в сентябре 1960 года, будет суждено познакомиться на бульваре Сен-Мишель с молодой девушкой из Швейцарии, которая оказалась там проездом в Оксфорд на учёбу, но тут продлила свою остановку и однажды тёплым осенним вечером пошла с Филиппом в мансардную комнату на улицу Эколь, отчего девятью месяцами позже на свет появился мальчуган, которого в церкви Сен-Николя-дю-Шардоне нарекли моим именем.
Как бы то ни было, все они оставались здоровыми и не голодали. Поскольку Леон и Ивонна ещё хорошо помнили Первую мировую, они со дня объявления войны собирали аварийный запас. Так как до осени цены росли умеренно, они забили шкафы мешками с рисом, пшеницей и овсом; к тому же в окне над туалетом, за невзрачной занавеской, за которой никакой мародёр не заподозрил бы продовольственные продукты, уместились сотни баночек с фасолью, горохом, сгущённым молоком и яблочным пюре.
Даже яйца, масло, колбаса и мясо регулярно появлялись на столе, с тех пор как старший сын Мишель раз в месяц в выходные повадился ездить в Руан к тёте Софи, которая водила знакомство с какими-то нормандскими фермерами. Шестнадцатилетнему Мишелю очень нравилось идти субботним утром на вокзал Сен-Лазар с полными карманами денег и с рутиной завзятого путешественника садиться в поезд на Руан; несколько менее приятным было воскресное возращение с тяжёлым, набитым под завязку чемоданом, который ему приходилось тащить на себе целых три километра, с оглядкой на полицейских и солдат вермахта, от вокзала до улицы Эколь.
Труднее всех в эту зиму было Ивонне. С тех пор, как большая политика сочла необходимым запереть маленькую Мюрьель в подвал, после чего она стала писаться в постель, острый рассудок Ивонны был день и ночь занят тем, чтобы сохранить семью здоровой, сплочённой и сильной. Записям сновидений пришёл конец, розовые очки, свободные летние наряды и незатейливые песенки тоже остались в прошлом. Все её мысли теперь вращались вокруг одного вопроса, как ей защитить, прокормить и обогреть мужа и детей до конца войны и как отвести от них горе и беду.
Она следовала этой цели с хитростью тайного агента, с жертвенностью религиозной фанатички и с безоглядной отвагой танкиста. По утрам она отводила своих детей в школу – одного за другим, в том числе старшего Мишеля, который тщетно протестовал против материнского конвоя, а вечером всех забирала. Утром, прежде чем отпустить Леона из дома, она выглядывала из окна гостиной, осматривая улицу направо и налево, нет ли какой опасности; а если он задерживался с работы на несколько минут, бежала ему навстречу с горькими упрёками.
Если кто-то из детей кашлял, она, пуская в ход враньё, фальшивые деньги и своё декольте, добывала мёд, липовый чай и сиролин, а когда однажды на кухне замёрзла вода, она средь бела дня, на глазах у зевак собственноручно срубила небольшую акацию перед румынской церковью, притащила целое дерево домой и изрубила его во внутреннем дворике на дрова.
Услышав однажды ночью на лестнице какой то странный шум, она на следующий же день купила на чёрном рынке маузер калибра семь и шесть с патронами и объявила своему недовольному мужу, что без предупреждения пристрелит любого чужака, вошедшего в квартиру против её воли. Когда Леон напомнил ей, что пистолет, который в первом акте висит на стене, во втором неминуемо должен выстрелить, она пожала плечами и сказала, что реальная жизнь подчиняется другим законам, нежели русский театр. А когда он спросил, почему она выбрала именно немецкий пистолет, она объяснила, что немецкие органы дознания, если найдут в немецком трупе немецкую пулю, скорее всего будут искать и немецкого стрелка.
Спаяло ли трудное время Леона с Ивонной ещё теснее, оттого что они много раз доказали друг другу на деле свою надёжность и верность, облетела ли с них в условиях постоянной опасности последняя надежда на романтическую любовь, поскольку им приходилось действовать как боевым товарищам – и стали ли они от этого ближе друг другу или нет, сказать трудно; скорее всего они никогда и не спрашивали себя об этом. Ибо значение имела не этикетка и не название их союза, а ежедневное выживание; и помимо всякой метафизики само время попросту создало факты, которые были весомее всяких слов.
Таков был факт, что обоим было за сорок, и с определённой вероятностью они уже пересекли середину своей жизни. И арифметически выходило так, что из своей прежней жизни половину они провели вместе и скоро число их ночей в супружеской постели перевесит число их ночей, проведённых порознь. Уже было видно, что их дети, поразительно быстро взрослеющие, скоро выйдут в мир живым доказательством того, что Ивонна и Леон были вполне приличными родителями. Скоро дни, что ещё оставались им на земле, побегут всё быстрее, а сумма их общих воспоминаний станет так велика, что будет в любом случае отраднее надежды на какую бы то ни было жизнь друг без друга.
Конечно, может случиться так, что по какой-то причине однажды она уйдёт от него или он от неё. Но это будет не началом новой жизни, а продолжением их прежней жизни в новых обстоятельствах. Второй жизни не бывать, у них есть только эта. На первый взгляд это могло показаться убийственным, но на второй – утешительным, ведь это значило, что их прошлая жизнь была не случайностью, а являлась обязательной предпосылкой всему тому, что ещё произойдёт.
Леон был мужчиной всей жизни Ивонны, а она была женщиной его жизни, для ревности больше не было повода. В этом уже ничего не изменишь, даже если они всё же лишатся друг друга – из-за какой-нибудь катастрофы или по старческой глупости. Просто уже не оставалось времени на то, чтобы с кем-то другим провести в другой супружеской постели столько же ночей, сколько они уже провели вместе.

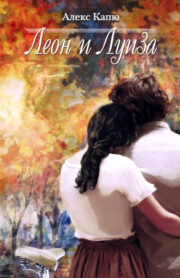
"Леон и Луиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леон и Луиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леон и Луиза" друзьям в соцсетях.