Джеймс вскочил с выражением облегчения на лице, едва завидев Моррисона на пороге отеля. Сэр Клод должен был встретиться с японским министром иностранных дел в два пополудни. Моррисону и Джеймсу предстояло чаепитие с влиятельным политиком, графом Матсукатой. Но самое ответственное мероприятие было назначено на вечер — они были приглашены к адмиралу Саито. Джеймс послал записку к Бринкли с просьбой присоединиться к ним за ланчем. Их коллега, хотя и без энтузиазма относился к проекту «Хаймун», мог хотя бы предложить какой-нибудь совет, полезный для дела.
Бринкли привел на ланч в «Империал» свою супругу. Она была очень хорошенькой, с приятными манерами и умным взглядом. Когда Моррисон сказал, что их будут развлекать Матсуката и Саито, у Бринкли глаза поползли на лоб. Он посмотрел на жену. Легкая тень пробежала по ее лицу.
— Я так и думал, — сказал Бринкли, обращаясь к коллегам. — Похоже, они решительно настроены бойкотировать вашу просьбу.
Моррисон заметил, как в обеденный зал вошел Мартин Иган. Американец тут же проследовал в другой угол, словно и не видел Моррисона, хотя их столик хорошо просматривался от входа. Что-то он сегодня не слишком общителен.
Как оказалось, Иган был единственным из корреспондентов, кто не подошел к их столику в тот день. Слухи о том, с кем намерены встречаться Моррисон и Джеймс, уже поползли среди журналистов. И первым откликнулся здоровяк Беннет Берли, репортер лондонской «Дейли телеграф», притащивший за собой кроткого военного художника Мелтона Прайора.
— Скажите им, что нам нужно пробраться на фронт, — потребовал Берли, стуча кулаком по ладони. — Хватит с ними церемониться, пора говорить прямо и открыто. — Он рассказал, как пешком протопал всю Маньчжурию, не спрашивая ни у кого разрешения. Он мог бы делать первоклассные репортажи, если бы не треклятые японцы. — Я не хотел никого обидеть, мадам, — добавил он, кивнув в сторону супруги Бринкли, которая жестом дала понять, что ничего страшного, хотя Моррисон думал иначе. Хвастун. Моррисон едва успел отправить Берли и Прайора, успокоив их туманными обещаниями, как нагрянули следующие просители. Мой редактор требует… устали от бессмыслицы… должны быть на фронте… они вас послушают…
Когда они наконец остались одни, Бринкли кивнул, словно самому себе.
— Безотносительно «Хаймуна», — сказал он, — если кто и может уговорить японцев, так только ты, Джордж Эрнест. Удачи тебе.
Джеймс и Моррисон воспользовались тем, что дождь взял передышку, и после ланча отправились на прогулку. По улицам сновали мальчишки — разносчики газет, колокольчиками возвещая о поступлении свежих фронтовых сводок. Вокруг них толпились прохожие, жадные до новостей. Купив экземпляр «Джапаниз график», Моррисон и Джеймс углубились в чтение.
Новости нельзя было назвать вдохновляющими. На днях русские потопили японский транспорт, перевозивший тяжелые осадные орудия, строительные материалы для железных дорог и около 1400 человек. И если японцам и удалось добиться определенных успехов на суше, отвоевав несколько русских позиций, за это пришлось заплатить многими тысячами жизней.
Джеймс покачал головой:
— Никто не ожидал такого отчаянного сопротивления русских.
Их внимание привлекла женщина, переходившая дорогу вместе с маленькой дочкой. Кимоно женщины было расшито портретами генералов и картинами военных сражений. Костюм ее дочки был декорирован торпедами и подводными минами.
— Эту нацию нельзя победить, — сказал Моррисон. — И мы должны учиться у них решительности. Посмотрим, что принесут нам сегодняшние встречи.
Резиденция графа Матсукаты была величественной, но без хвастливой роскоши; богатство заявляло о себе весьма деликатно, проявляясь в деталях, особом изыске резных окон, дверных ручек. Гостиная открывалась в сад, являвший собой настоящее произведение искусства и в то же время образец естественной красоты. Тут и там просматривались каменные фонарики, выгнутые аркой мостики, раскрашенные охрой. В гостиной обращала на себя внимание акварель с горой Фудзиямой, написанная экспрессивными мазками.
Моррисон сразу вспомнил о Мэй, представив ее восхищение здешней красотой. Временами ее нелогичность и легкомыслие доводили его до точки кипения. Он был человеком дела, а она создана для развлечений. Между тем, будучи экспертом в вопросах политики, экономики и государства, он знал, что, когда дело касалось эстетики, тут она была его учителем.
К ним вышел хозяин. Его мощное телосложение несколько диссонировало с изящной походкой. Обменялись поклонами. Граф пригласил Джеймса и Моррисона присесть на шелковые подушки на полу, застеленном татами, после чего занял свое место, зашуршав парчовыми одеждами.
С помощью своего переводчика граф тепло приветствовал их, не преминув заметить, что давно хотел познакомиться с легендарным журналистом. Его родственники тоже пережили осаду Пекина; и они с восторгом рассказывали ему о подвигах отважного доктора Моррисона. Несмотря на предупреждения Бринкли, Моррисон почувствовал, что в нем крепнет надежда. За чашками зеленого чая Матсуката говорил о золотом запасе, расспрашивал об общих знакомых, показывал свою коллекцию старинных и редких фотографий Японии, которые Моррисон прежде не видел. Отвечая на вопрос о миниатюрной сосне, заснятой на одной из фотографий, он долго рассуждал об искусстве бонсай, зародившемся еще во времена правления китайской династии Хань. И ни слова о кораблях и корреспондентах, словно он вообще не собирался поднимать эти темы. Надежды Моррисона не оправдались. Он чувствовал, как горят мышцы ноги, как ревматизм сковывает колени. Когда аудиенция подошла к концу и все встали, ему с трудом удалось сохранить равновесие и не захромать. Снова вспомнилась Мэй, но на этот раз он с облегчением подумал, что ее нет рядом и она не видит его таким дряхлым и старым.
— Будь проклята эта восточная скрытность! — Они только вышли за порог, как Джеймс, с присущей ему прямолинейностью и эмоциональностью, высказал свое мнение.
— Будем надеяться, вечером нам повезет больше, — ответил Моррисон. Хотя он и вынужден был признать, что Бринкли с женой оказались правы, ему не хотелось говорить об этом Джеймсу. — В любом случае, я предлагаю тебе запастись восточным спокойствием и терпением перед тем, как мы отправимся на обед.
Когда они встретились у экипажа, чтобы отправиться на прием к Саито, Моррисон с удивлением отметил, что Джеймс не только спокоен, но и выглядит щеголем.
— Саито намерен сообщить нам, что «Хаймун» наконец свободен для выхода в море, — объявил Джеймс.
— Твой источник сообщил?
— Сэр Клод.
— Значит, его источник…
— Он уверяет, что источник надежный.
Моррисон вновь решил оставить свои сомнения при себе.
У ворот двухэтажной деревянной резиденции адъютант адмирала Саито встретил их глубоким поклоном, приветствовал бархатным голосом и проводил в изысканно обставленную гостиную с золочеными стенами, где горели свечи.
Адмирал Саито, сын самурая, был широколобый, уголки губ скорбно опущены, тяжелый взгляд узких глаз выражал одновременно понимание и усталость. Его гостеприимство, как и родословная, было безупречно: тридцать восемь смен изощренных блюд, каждое подано с величайшим артистизмом и в отдельной фарфоровой посуде; сказочно-красивые гейши в кимоно с длинными струящимися рукавами, легким шуршанием возвещавшими об их появлении; светлая музыка…
Адмирал дал Моррисону и Джеймсу все, кроме ответа, которого они так ждали. Он не только не дал им никакого ответа, но даже не предоставил возможности задать вопрос.
По дороге в отель Джеймс закипал, словно готовящийся к извержению вулкан. Моррисон хранил молчание, измученный бесплодным ожиданием, утомительной вежливостью хозяина и количеством саке, которое пришлось выпить по настоянию Саито.
Наконец Джеймс взорвался:
— Сэр Клод дал мне слово!
Моррисон так и видел, как лава стекает с макушки Джеймса.
— Ты знаешь, как говорят: посол — это честный человек, которого посылают за границу врать во благо своей страны. А насчет того, что он дал тебе слово, — так сэр Клод меня часто использовал, но взамен не давал ничего, кроме плохих обедов.
Когда они вошли в «Империал», Джеймс бросил взгляд на древнюю карликовую сосну, доминировавшую посреди лобби.
— Что ж, возможно, мне никогда не удастся стать очевидцем битвы за Порт-Артур, зато я могу в красках расписать искусство бонсай.
Моррисон скривил губы в улыбке.
— Вот что они делают с нами, — сказал он, проведя пальцем по скрюченным веткам маленького деревца. — Японцы, наши редакторы, наши дипломаты, коллеги, цензоры — все те, кто сдерживает нас и контролирует. Они связывают нас медной проволокой своих капризов и придирок, мешая нам выполнять нашу работу на передовой. Они выкручивают нам руки, подавляют наши великие порывы, делают нас маленькими и ничтожными.
Джеймс покачал головой:
— Наверное, мне пора отказаться от своей мечты и смириться с тем, что я человек, опережающий свое время. Возможно, мне следует принять предложение японцев об аккредитации и надеяться лишь на то, что это больше, чем подачка. Оседлаю своего коня и поскачу на фронт со своими привычными заботами о гонцах, голубях и прочих допотопных средствах связи, а свои революционные мечты оставлю для будущих поколений журналистов.
— Это несправедливо. — Моррисон нахмурился, расстроенный пораженческим настроением Джеймса больше, чем ожидал.
— Как в любви, так и на войне — а особенно в военной журналистике — все справедливо, — ответил Джеймс. — Во всяком случае, так говорят. Хотя сам я в этом не уверен.
— Давай сделаем еще одну попытку.
Следующие четыре дня прошли в бесполезных дискуссиях как с британскими, так и с японскими официальными лицами; по ночам Моррисон то возносился на вершину счастья, то пребывал в агонии, когда наступала очередь Игана наслаждаться телом Мэй.

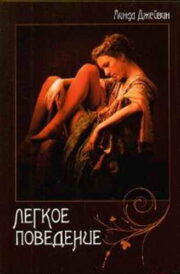
"Легкое поведение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Легкое поведение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Легкое поведение" друзьям в соцсетях.