В каюте Моррисон разгладил страницы своего дневника, закрепил на столе чернильницу. Он вывел дату: двадцатое апреля 1904 года. Следуя давней привычке, записал имена членов команды: капитан Беннет, инженер Малкольм. Аккуратно занес обрывки информации и сплетни, услышанные от попутчиков, после чего перешел к теме, которая волновала его более всего. Почти два месяца вся моя жизнь была подчинена этому наваждению…
Корабль бороздил волны залива. Вид из иллюминатора нельзя было назвать вдохновляющим. Темное море и под стать ему темное небо. Конечно, есть косвенные доказательства… даже сейчас каждая клеточка моего тела загорается страстью, когда ее образ встает перед глазами… капризный и упрямый… я потерял рассудок… ослеплен ревностью… Он писал целый час, пока не пересохла чернильница и не онемела рука, с трудом выводившая строки при качке.
Много лет назад Моррисону казалось, что мир рухнул, когда Ноэль сбежала от него с мускулистым итальянцем, мажордомом знаменитого кабаре «Черный кот» на Монмартре. Потом были и другие разочарования. И вот теперь Мэйзи оставила его ради Игана. Будет ли это расставание окончательным? — подумал он, и от этой мысли защемило в груди.
Перечитав написанное, он вырвал листы из дневника. Перескакивая через одну ступеньку, взбежал на палубу и выбросил в море свои надежды, мечты и разочарования. Белые страницы тускло блеснули, прежде чем их поглотили полуночные воды.
Глава, в которой по «Хаймуну» звонит колокол и Моррисон, вдали от мисс Перкинс пребывает в смятении
Зарядил промозглый дождь. Остров Лиу-Кунг был окутан туманом. Моррисон проснулся с больным горлом, словно его скребли бритвой. В глазах пульсировала горячая боль, шею сковало льдом, в ушах стреляло, а носовые пазухи распухли так, что едва не лопались. Укутанный в шерстяную одежду, угнетаемый жалостью к самому себе и связанный чувством долга, он тащился по набережной, где как раз шла выгрузка раненых японских солдат и гражданских китайских рабочих. Стон раненых стоял в ушах, пока он поднимался на холм, к станции беспроводного телеграфа. Там он нашел Джеймса, пребывавшего в добром здравии.
Джеймс вывалил на стол ворох телеграмм, чтобы Моррисон мог просмотреть их.
— Я ни от кого не получаю никакой поддержки. Миром правят маленькие и трусливые люди.
Моррисон тупо пролистывал телеграммы.
— А что наш редактор?
— Он нанес самый страшный удар. Белл не намерен продлевать аренду «Хаймуна». Говорит, что, пока нас не подпустят к боевым действиям, все это пустая трата денег и ресурсов газеты.
— Твой ответ?
— Мы — то есть ты и я — на рассвете отплываем в Нагасаки. Пассмор рассчитывает, что при нынешних ветрах и течении это займет сорок восемь часов, и угольных запасов «Хаймуна» хватит, чтобы добраться туда. Но мы должны убедить японцев, чтобы они дали нам разрешение на выход в море. Это наш последний шанс. А пока ты должен усыпить бдительность Белла.
— А если японцы все-таки откажут?
— Тогда я ухожу с «Хаймуна» и устраиваюсь в японскую газету. В любом случае, Тонами говорит, что ты пойдешь со Второй армией, которая отходит первого или второго мая, на реку Ялу. Так что у тебя будет возможность стать очевидцем первого главного сухопутного сражения этой войны.
Никогда еще Моррисон не был так слаб телом и не расположен сердцем и разумом к подобной авантюре.
— Отлично.
На рассвете «Хаймун» отправился через Желтое море к берегам Страны восходящего солнца. Ичибан, несмотря на целительные свойства молока и яиц, не проявил себя как лекарство от катарального ринита. Но настроение у Моррисона заметно улучшилось. Вечером на «Хаймун» для него пришла телеграмма от этого невозможного создания. Милая, милая девочка. Она следовала в Нагасаки на пароходе «Дорик» вместе с миссис Гуднау. И могла бы там встретиться с ним, прежде чем отправиться к Игану в Иокогаму. Возможно, она передумала. В нем опять ожила надежда, хотя ему было трудно сказать даже себе, на что он теперь надеется.
Он задремал от снотворного. К моменту встречи с ней я должен поправиться. Прошу тебя, Господи. Несмотря на все испытания, она приносит мне несказанное счастье.
Ранним утром двадцать четвертого апреля «Хаймун» подошел к зажатому в горах порту Нагасаки. Причал был забит угольными баржами, на пристани выстроились в очередь женщины в простых голубых кимоно, с угольными корзинами за спиной. Босоногие лодочники в заткнутых за пояс одеждах, посверкивая мускулистыми икрами, направляли свои ялики к местам стоянки. Резкий запах морепродуктов и водорослей пробудил сознание Моррисона; вернувшееся обоняние означало, что он на пути к выздоровлению. Его чувства возвращались к жизни, а азарт дороги и тревожное ожидание — все, что было связано с Мэй и предстоящей отправкой на фронт, — придавали происходящему особую остроту.
«Дорик» должен был прибыть тем же вечером. И она на его борту! Новость слишком хороша, чтобы в нее поверить. Открывающиеся возможности кружили голову. Мэй бы не просила его о встрече, если бы не передумала выходить замуж за Игана. Она повела себя поспешно и глупо. Он простит ее. Они поженятся и вернутся в Пекин или же вернутся в Пекин и там поженятся, хотя не исключено, что она предпочтет свадьбу в Тяньцзине или Шанхае. У них родится этот ребенок и будут еще дети. Им столько нужно сказать друг другу. Возможно — каким-то чудом! — Иган еще и не знает про ее положение.
Он был идиотом! Просто Мэй в очередной раз хотела заполучить его, сделать по-своему, а вместо этого предпочла уйти, опять-таки оставив за собой последнее слово. Он должен был это понять.
Ему не следовало быть таким циником.
Но цинизм был у него в крови.
Странно жениться в его-то возрасте. Но и приятно. И дети… Ему вспомнилось, как она играла с юным Оуэном Латтимором.
Нелепо.
Чудесно.
Джеймс занялся дозаправкой корабля, а Тонами — деловыми встречами, которые, как они надеялись, помогут снять недоверие официальных лиц к «Хаймуну». Втайне радуясь, что лично у него нет неотложных задач, Моррисон снял номер в отеле. Он лениво пролистал гостевую книгу, выискивая подпись Мартина Игана. И с облегчением убедился, что Иган выписался из гостиницы неделю тому назад.
Потом он отправился на прогулку. На улице ему встретилась парочка пожилых женщин в многослойных кимоно и с зонтиками, они улыбались прикрывая рты ладонями. Бумажные фонарики колыхались на ветках деревьев, позвякивая колокольчиками. Здесь ощущалось удивительное спокойствие, от которого Моррисон, после шумной суеты Китая, слегка терялся.
Он зашел в крохотную, безупречно чистую закусочную на ранний ланч. Даже в том, как японцы готовили еду, угадывалась их скрытность — все варилось, жарилось и заворачивалось в роллы; а эти деликатные запахи и сокрытие в лакированные коробочки не шли ни в какое сравнение с шипением и потрескиванием котелков, скрежетом шпателей, острыми запахами чили и чеснока наваленных с верхом блюд.
Несмотря на безупречную вежливость японцев, иностранец всегда чувствует их холодную отчужденность, чего нельзя сказать о Китае, при всех его вспышках ксенофобии. И если китайское правительство не вызывало у Моррисона такого уважения, как японское, Китай как нация сумел завоевать его любовь. Как человек, ценивший порядок, большую часть своей жизни посвятивший сбору материалов, составлению каталогов и записей, Моррисон питал слабость ко всему хаотичному, говорливому, страстному, непредсказуемому. Китай… Мэй…
Выйдя из закусочной, он оказался на узкой улочке с открытыми витринами магазинов, которая вела к храму Бронзовой Лошади. Мальчик с наивным взором, в голубом кимоно, играл у обочины с вращающимся волчком; едва завидев высокого чужеземца с бледной кожей и светлыми волосами, он бросился к своему отцу, хозяину магазина, и зарылся в складках его платья. Мужчина поклонился Моррисону, и тот в ответ тоже склонил голову. Его распирало от чувств. В нем так жарко горел огонь ожидания, что он мог бы подпалить все деревянные дома в округе. Ему не хватило бы терпения на осмотр достопримечательностей. Он развернулся и чуть ли не бегом помчался обратно на пристань.
«Дорик» уже причалил, но был поставлен на карантин. Таможенник сказал Моррисону, что у одного из пассажиров обнаружены симптомы чумы. Нет, он не знал имени пассажира. Нет, он не знал, мужчина это или женщина. Умоляю, Господи, пусть это будет не она. Думая об опасности, нависшей над Мэй и ребенком, которого она носила, впервые не сомневаясь в том, что это его ребенок, Моррисон был вне себя от отчаяния и злости.
Поднявшись на «Хаймун», он нашел Джеймса в машинном отделении, где тот жарко спорил о чем-то с корабельным инженером, отчаянно жестикулируя трубкой.
— На это уйдет несколько дней, — настаивал инженер, коротышка шотландец с кудряшками рыжих волос. — Вы можете кричать и жаловаться, сколько вам угодно, мистер Джеймс. Но нам необходим новый клапан, или мы никуда отсюда не двинемся, а эти клапаны не растут на деревьях Нагасаки.
Моррисон, втайне испытывая облегчение, увлек Джеймса на верхнюю палубу:
— Успокойся. У Тонами будет больше времени на то, чтобы вымолить у своих командиров разрешение на отправку «Хаймуна». — А я дождусь, пока «Дорик» снимут с карантина.
— Двигатель — это еще не все наши беды. — Джеймс сунул Моррисону письмо. — От нашего министра в Токио.
— Сэра Клода? И что он пишет?
— Ничего хорошего. Он не желает использовать свое положение для отстаивания нашего дела перед японским правительством. Он даже признается в том, что его восхищает оперативность, с какой японцам удалось подавить недовольство журналистского корпуса. Предатель Бринкли между тем опубликовал редакционную заметку в поддержку японской позиции по недопущению корреспондентов на фронт. Якобы свободный доступ на передовую будет способствовать распространению информации, неблагоприятной для японской армии, а значит, и для исхода войны. Он забывает, что сам тоже корреспондент.

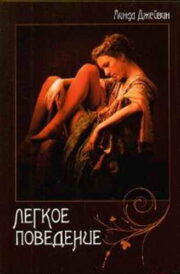
"Легкое поведение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Легкое поведение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Легкое поведение" друзьям в соцсетях.