Моррисон испытывал настоящий восторг и когда пробирался по топким болотам, и когда шагал по глинистым равнинам, где не произрастало ничего, кроме лебеды и низкорослых австралийских эвкалиптов, и когда его терзали жара и жажда либо проверяли на прочность ливни, и когда оказывался в охристых зарослях эвкалиптов или наблюдал за нежившимися на закате стадами кенгуру, и когда сидел у костра в дружеской компании аборигенов. Бодро вышагивая под бескрайним небом, весь в красной пыли от земли, он знал, что не умрет. Нет, это было невозможно, когда еще так много предстояло сделать. И конечно, глупо было думать о смерти в разгар такой жизни, посреди такой красоты.
Оптимизм и уверенность, жизненно необходимые путешественнику, были нелишними и для влюбленного. Когда в тот день Мэйзи снова нежилась в его объятиях, он был счастлив до головокружения. И в какой-то момент даже осмелился прошептать, зарывшись в ее волосы:
— Мэйзи, дорогая, смею ли я думать, что ты так же счастлива, как я сейчас?
— О, милый, — ответила она, — счастье — это мое естественное состояние.
Он предвидел множество вариантов ответа на свой вопрос. Этот оказался совершенно неожиданным.
— Я имел в виду…
— Я знаю, милый. Конечно, я счастлива здесь, сейчас, с тобой. Ты должен это знать.
Ее интонации и взгляд, в котором сквозило нечто похожее на жалость, привели его в замешательство.
— Позволь, я объясню иначе, — сказала она. — На прошлой неделе я ходила в китайскую оперу.
— Понимаю, — сказал Моррисон, хотя не понимал ровным счетом ничего.
— Костюмы, грим и жесты были превосходны. Да и сама история замечательная — про студента, который находит портрет красивой женщины и влюбляется в нее.
— «Пионовая беседка». Я знаю. Это знаменитая притча.
— Я почувствовала, что в ней сокрыта вселенская правда. Возможно, и правда о любви.
— И в чем же она?
— В том, что мужчины влюбляются в идеал женщины, — ответила она.
— А с женщинами разве по-другому? Насколько я помню, героиня умерла от горя после встречи во сне с тем юношей. Он же нашел картину после ее смерти, начал грезить о любимой и вернул ее к жизни.
— Верно, но история была написана мужчиной, и это многое объясняет. Я думаю, что вопреки общепринятому мнению мы, женщины, не столь романтичны. Не смотри на меня с таким удивлением. Нас ошибочно принимают за романтических особ, и все потому, что мы так сентиментально выражаем свои мысли в женских книгах и журналах. Но не забывай, что женщина обладает врожденным — или же благоприобретенным — желанием доставлять удовольствие. Вот почему мы позволяем мужчине чувствовать себя центром нашей вселенной, в то время как этим центром легко могут быть… ну, я не знаю… шляпки, или романы, или развлечения.
— Грустно, когда мужчина чувствует, что должен состязаться со шляпкой. Ты нарочно дразнишь меня. Но что ты на самом деле имеешь в виду, Мэйзи?
— Возможно, то, что ты видишь, это вовсе не я.
— Что? Ты хочешь сказать, что это очаровательное, чувственное, веселое, умное и любящее создание в моих руках на самом деле — унылый синий чулок? Или, может, хитрющая фея из тех, кого китайцы называют лисицами? Или, я не знаю, мандарин императорского двора? — Моррисону трудно было сохранять серьезность.
— Вот видишь, ты подтверждаешь мою точку зрения. Твое чувство ко мне делает тебя слепым, хотя я была бы круглой дурой, если бы не ценила этого. Но возвращаясь к опере… там есть еще одна вещь, которая касается нас с тобой.
— Говори.
— Как бы мне это сформулировать?.. — Она прикрыла глаза и задумалась на мгновение. — Понимаешь, смех в китайской опере настолько стилизован, что несет в себе куда больший смысл. Это своего рода всеобщий смех, смех надо всем, что существует на Земле. То же самое с плачем, который можно назвать платоническим идеалом слез. Когда актер плачет на сцене Пекинской оперы, он оплакивает всё и вся. К тому же движения идут по кругу. Чтобы взглянуть вверх, актер сначала смотрит под ноги и вокруг себя; чтобы указать на что-то, он заводит пальцы назад, а уже потом направляет их вперед. И сцены любви проигрываются так, будто в них изначально заложен возврат к исходной точке.
Моррисон даже не знал, что ответить.
— Интересный тезис. Почти метафора.
— Вынуждена признать, что авторство не мое. Об этом мне рассказал Честер.
— Честер?
— Голдсуорт. Это он пригласил меня в оперу. Он очень хорошо разбирается в китайской культуре.
— Голдсуорт, — повторил Моррисон. Кисловатый привкус во рту напомнил ему о том, что в китайском языке ревность передается фразой «съесть уксус».
— Ты ведь не станешь этого отрицать, милый. Эта его книга, «Настоящий китаец», проникнута глубоким знанием предмета.
Он уже был на грани того, чтобы высмеять труд Голдсуорта, который во многом спорил с его «Австралийцем в Китае». Моррисон признавал, что слегка погорячился, когда написал в своей книге, будто китайцы менее восприимчивы к боли в сравнении с другими расами. С другой стороны, он это видел своими глазами, когда мужчины-китайцы с кажущейся невозмутимостью сносили наказания или когда они обвязывали свои обнаженные торсы канатными веревками и тянули тяжелые баржи по реке Янцзы. Как бы то ни было, Голдсуорту не следовало приписывать себе лавры великого китаеведа. Но, не желая портить настроение, Моррисон решил оставить свои мысли при себе. У замшелого старикана Голдсуорта шансов покорить Мэй было не больше, чем у болтуна Джеймсона. Как ее любовник, Моррисон мог себе позволить быть великодушным. К тому же трудно было злиться, когда мисс Мэй Рут Перкинс гладит тебе спину.
— Не многовато ли шрамов на одну пару ягодиц? — заметила она.
Стараясь представить это делом привычным для искателя приключений, Моррисон пустился в рассказы о том, как его ранили во время пекинской осады, а несколькими годами раньше, когда он пытался пересечь пешком Новую Гвинею, пронзили копьем.
Так тебе, Голдсуорт!
— Про пулю мне следовало бы знать — ведь это тогда тебя похоронила твоя родная газета?
— Да, и эта пуля действительно едва не убила меня. Но то, что произошло в Новой Гвинее, было куда хуже. Там случались такие передряги, что смерть казалась лучшим вариантом, особенно когда копье вонзилось в меня чуть ниже глаза. Потом уже, через несколько лет, меня прооперировал в Эдинбурге профессор Чьен. Он убрал из носовых пазух остаточные фрагменты, хотя и не все. Так что это ранение до сих пор мучает меня. Помимо всего прочего Чьен извлек из моей подвздошной мышцы трехдюймовое деревянное копье.
— Где это?
— Здесь. — Он показал шрам на животе. — Это вообще забавная история.
— О?.. — с любопытством воскликнула она, поглаживая шрам.
Если бы мне тогда было двадцать, усмехнулся он про себя, сейчас я бы не разговаривал с тобой. У возраста есть свои преимущества:
— Профессор Чьен даже устроил обед в честь моего выздоровления. Он сказал, что вышлет моим родителям копию этого копья, отлитую в золоте. Я тут же написал своим старикам, предупредив о подарке. Правда, они его так и не дождались. В 1895-м я снова вернулся в Эдинбург и встретился с профессором, которому был стольким обязан. Он сказал: «Я давно собираюсь отправить твоему отцу серебряный оттиск того копья».
Мэй фыркнула:
— Кажется, он обещал золотой.
— Вот именно. Я снова написал родителям, сообщив им о скорой отправке сувенира, правда менее ценного. Но и он не был доставлен. Спустя годы я встретился с профессором в третий раз. Жаль, он не объявил о том, что намеревается послать моим родителям бронзовый аналог копья.
Купаясь в нежном взгляде Мэй и ее заливистом смехе, Моррисон почувствовал прилив эйфории. Он с опозданием вспомнил о подарке, который купил для нее в тот день, когда ходил на улицу Люличан в Пекине: это была пара крохотных расшитых тапочек для китайских ножек. Ее восторг и град поцелуев были для него лучшей наградой за сюрприз. Он, конечно, болван, что позволил себе так разволноваться от упоминания о Голдсуорте.
— Как я жалею, что пообещал Дюма встретиться за обедом, — С горечью произнес он, потянувшись к выключателю настольной лампы.
— А я — Рэгсдейлам.
Моррисон, словно влюбленный мальчишка, наблюдал за тем, как она, усевшись за туалетный столик в одной сорочке, расчесывает волосы. Он помог ей завязать на шее черную ленту с серебряным кулоном-подковой — открытой частью вверх, чтобы схватить удачу, как объяснила она. Потом он застегнул на ее шее изящную платиновую цепочку с вертикальным кулоном из трех золотых сердечек.
— Удача и любовь, — заметил он.
— Самое необходимое.
Моррисон поцеловал ее в затылок.
С улицы доносились цокот копыт и скрип колес экипажей. В коридоре пробили время напольные часы. За зашторенными окнами проступали сумерки.
— Хороший отель, не правда ли? — сказала она.
— Ммм… — пробормотал он, не отрываясь от ее молочной кожи.
— Я была здесь не так давно с Цеппелином, голландским консулом.
Его губы замерли на ее загривке. Сердце пропустило один удар. Не хочет же она сказать… Да нет, конечно, нет. Он с надеждой и оптимизмом представил себе лобби, ранний ужин с чаем, сэндвичи с огурцом. Добродушный дипломат, его дородная супруга, болтливая миссис Рэгсдейл…
— Я так полагаю, не при схожих обстоятельствах, — произнес он с коротким и хриплым смешком.
— О да, милый Эрнест, именно при таких.
Моррисон вперил взгляд в ее отражение в зеркале.
Она улыбнулась в ответ невинно и беспечно. Потом встала и подошла к кровати, извлекла из груды одежды на полу чулки и принялась натягивать их:
— И куда запропастилась эта подвязка?
Моррисону довелось выдержать долгие переходы по пустыням и джунглям. Он поднимал голову над парапетами, стреляя в «боксерские» легионы. Ему десятки раз и во многих странах удавалось перехитрить смерть. И его было не так легко сломить. И вот сейчас это случилось. Он опустился на кровать рядом с ней и, покусывая губы, заговорил:

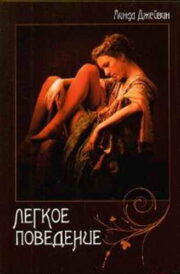
"Легкое поведение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Легкое поведение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Легкое поведение" друзьям в соцсетях.