Спустя годы, когда я уже работала в Нью-Йорке, двоюродная сестра Фелисия познакомила меня с Джоном Кеннеди-младшим и рассказала ему, к моему великому смущению, всю эту историю. Кеннеди-младший воспринял рассказ как замечательную шутку и с тех пор, где бы мы ни встречались, приветствует меня фразой: «А, сестричка Лебедь, как дела?» Как бы то ни было, я чувствую себя в какой-то степени причастной семейному клану Кеннеди, и, может быть, именно поэтому в Нью-Йорке я поселилась в «Карлайле» [5], – ведь именно там они когда-то жили. Конечно, уместнее было бы обосноваться в пригороде, но я вообще не люблю новых особняков. Я выросла в пятиэтажном городском доме в Болтонсе, в одном из самых фешенебельных старых лондонских районов. К парадной двери вела лестница с четырьмя огромными каменными львами. Несчастной няне требовалось едва ли не полчаса, чтобы затащить меня домой на чай после дневной прогулки: я педантично останавливалась на каждой ступеньке (всего их было двадцать пять), чтобы погладить очередного льва и угостить его хлебом, сэкономленным на кормежке уток в Гайд-парке. Это были весьма литературные львы, они получили свои имена от моего дяди (настоящего) Уолтера – скверного поэта, каким-то образом пристроившегося на должности литературного редактора воскресной газеты. Львов звали: Конрад, Свифт, Пруст и Эймис. Эймис сидел на самом верху справа, и у него был отколот кончик носа. Бедная няня! Когда ей казалось, что мы уже почти дома, мне обязательно надо было вернуться, чтобы еще раз поцеловать Эймиса в выщербленный нос.
Был у нас и деревенский дом в Уилтшире. Родители называли его не иначе как «коттедж». Оксфордский словарь английского языка определяет слово «коттедж» как «небольшой деревенский дом». В нашем загородном доме было семь спален, но про него все равно говорили «коттедж». Там царил милый беспорядок, и именно за это мы, дети, его любили. Там мы могли носиться как угорелые – в Лондоне же няня следила за каждым нашим шагом и требовала самого примерного поведения. Там всегда было полно разной живности. Около кухни вертелись кошки, собаки и даже ягнята, на заднем дворе, прямо напротив окон, топтались коровы. Когда злой рок, преследующий Кеннеди, настиг и нашу семью, родители стали все больше времени проводить в коттедже, а после того, как я покинула отчий дом, переехали туда окончательно. В конце концов дом в Болтонсе продали, городскую мебель перевезли в Уилтшир, но я упросила родителей сохранить старые вещи из коттеджа до тех пор, пока у меня не появится собственное пристанище. Теперь все это у меня – в моих апартаментах в «Карлайле»: мягкие диваны, столики в стиле «шератон» [6] и комоды, бархатные кресла в чехлах, овальный обеденный стол красного дерева со стульями, старая родительская двуспальная кровать с пологом на четырех столбиках. Некоторые мои друзья в Нью-Йорке меня не понимают. Я знаю, обстановка им кажется старомодной, уродской, и они удивляются, почему я не найму дизайнера, чтобы придать квартире более современный вид, – скажем, в духе Ральфа Лоурена. Пусть удивляются. Мне нужен собственный уют, уют родного дома. Я люблю Нью-Йорк, но я осталась англичанкой, и почему бы, раз это возможно, не устроить себе в небе над 76-й улицей и Мэдисон-авеню кусочек Англии? Я вообще считаю, что сколь бы высоко ни возносилась супермодель, ей нужно сохранять самые теплые отношения с семьей. Моими бы устами да мед пить! Сама я очень люблю родителей, но после постигшего нас несчастья семья разделилась, и до тех пор, пока все не разрешится, мне придется довольствоваться общением только с семейными реликвиями. А разве могут они заменить любовь и сердечное тепло отца и матери?
Правда, есть кому меня утешить. Полгода назад я вышла замуж и очень горжусь, что сумела скрыть это от прессы.
Но если бы это была единственная моя тайна!
В Нью-Йорк я вернулась на «конкорде».
Вспоминаю свой первый полет на «конкорде». Вокруг было столько знаменитостей, что я ужасно растерялась и не сразу заметила, что пассажиры тоже бросают на меня украдкой любопытные взгляды. И тогда я поняла, что на самом деле самое знаменитое здесь лицо – мое, потому что все остальные знамениты не лицами, а делами. Я же знаменита только своей внешностью. И больше ничем. Только лицо, тело и оригинальные ракурсы, в которых меня фотографируют.
Аэропорт Кеннеди. Таможенный досмотр, лимузин – и через час я дома. После парижского безумия спокойствие и уют моей квартиры кажутся просто раем.
До тех пор, пока я не захожу в спальню.
В полумраке мигает красный огонек автоответчика – выхода нет, напоминает он, и, пока я не предприму решительных действий, не будет.
Я опускаюсь на кровать, зачарованная красным миганием. Звонит телефон, я вздрагиваю. Вдруг это он? Нет, конечно, нет. Он никогда не звонит, если я дома. Почему-то он всегда знает, дома я или нет.
Я называю его Демоном.
Это началось полгода назад. Я приехала домой после показа на Карибских островах и обнаружила первое его послание. Это было совершенно неожиданно. Я распаковывала чемоданы, раскладывала вещи по местам, автоответчик крутил свою пленку, – менеджеры, приятели, вовсе незнакомые люди. Я уже собралась отнести чемоданы в кладовку, как вдруг услышала приятный мужской голос.
«Сван? Ты вернулась? Путешествие было удачным? Надеюсь, что да, потому что мне придется тебя немного огорчить. Во всем виновата твоя фотография в недавнем «Нью-Йорк мэгэзин». Не догадываешься, в чем дело? Есть другая фотография, на которой ты гораздо моложе, лет семнадцати-восемнадцати, наверное, в самом начале своей карьеры. В общем, если бы я не увидел журнал, я бы сегодня не позвонил. А сейчас ты кое-что сделаешь для меня. Останови ленту на автоответчике и поройся в своей корреспонденции. Там должен быть голубой конверт со штампом лондонского аэропорта Хитроу. Открой его и снова включи воспроизведение. Я подожду».
Странно, но я подчинилась – как во сне. У него был прекрасный голос – мягкий, мелодичный. Не английский, не американский – что-то промежуточное, нечто неуловимо среднеатлантическое. Я сразу же нашла конверт со штампом Хитроу. Мои адрес и имя были напечатаны. Письмо отправлено из аэропорта, значит, о месте жительства отправителя ничего не известно: он просто был в аэропорту. Мог лететь откуда угодно и куда угодно.
В конверте была фотография. Я взглянула на нее, и меня затрясло. Я бросилась обратно в спальню, к автоответчику. Щелчок, гудок – и снова голос:
«Ну что, нашла? Хорошая штучка, правда? Еще бы. Пока никто, кроме меня, эту фотографию не видел. Я никому не показывал ее все эти годы. Но помнил про нее. Никак не мог выбросить из головы. Я часто гадал, кто эта девушка на фотографии – она казалась такой знакомой. И вот увидел твой профиль в журнале, и все встало на свои места. Я сразу тебя узнал. Ты и есть та самая юная девушка, которую я щелкнул много лет назад. Но что такое, Сван? Кто этот парень на фотографии? Он старше тебя, и почему он протягивает тебе деньги? Да еще такую крупную сумму? Что пришлось сделать милой маленькой девочке, чтобы столько заработать? Все это скверно, Сван. Кстати, негатив просить бесполезно. Можно переснять фотографию с фотографии, и у меня их куча. Если положить этот снимок рядом с картинкой в журнале, сразу видно, что на них изображена одна и та же девушка. Ты. Нет, я не посылал фотографию в газеты и никому не говорил о своем открытии. Я решил подождать и подумать, чем ты можешь оказаться мне полезной. Ты еще услышишь мой голос. Пока».
С тех пор я и получаю эти послания. Никаких определенных требований, только угрозы и неизменные предупреждения в конце:
«Если ты не скажешь никому о моих звонках, Сван, все будет хорошо, но если ты подумываешь обратиться в полицию или еще к кому-нибудь за помощью, тебе следует иметь в виду: прежде, чем я возьмусь за тебя лично, я доберусь до твоей матери, до твоей семьи. Я не шучу! Если фотография попадет в прессу, рухнет твоя репутация и твоя карьера, но еще хуже будет, если неожиданный удар настигнет твою мать. А ведь ты так далеко, в Нью-Йорке. Я не прошу денег, Сван, это было бы вымогательство, но рано или поздно я попрошу об одном большом одолжении, и тебе придется быстро выполнить мою просьбу. А сейчас сотри запись. Никто не должен ее слышать…»
Он шел на риск, оставляя эти послания. Ведь я могла включить его запись при ком-нибудь. Интересно, знает ли он о моем муже? Потом, когда о нашем браке станет известно, мы будем жить вместе, но пока муж остается у себя в Гейнсборо, южнее Центрального парка. Со временем я стала замечать, что послания появляются, только когда я возвращаюсь домой без провожатых. Может, он живет в моем доме? Следит за мной? Кто он? Я чувствовала себя, как Уитни Хьюстон в «Телохранителе». Нанять телохранителя? Может, позвонить Кевину Костнеру…
Первая трагедия обрушилась на нашу семью в день восемнадцатилетия Венеции.
В детстве я была очень замкнутой. С той минуты, когда меня научили читать, я уткнулась носом в книгу и покидала детскую только для того, чтобы повертеться перед зеркалом в разных платьях. Я мечтала, чтобы мне разрешили порыться в шкафах с одеждой: о, эта череда превращений – от сказочной принцессы до Чарли Чаплина. Даже в самом юном возрасте мне хватало ума понять, что только так я смогу привлечь к себе хоть какое-нибудь внимание.
Меня не замечали из-за Венеции, которая была настоящей красавицей. Глаза лазурного цвета, точеный носик, чувственные губы, и венец всего – густые пепельные волосы до плеч, уложенные «под пажа». Истинно классическая красота, даже я это понимала. На костюмированных балах Венецию всегда выбирали Королевой Красоты – а мне она и в жизни казалась королевой.
В честь ее восемнадцатилетия родители давали бал-маскарад. В саду нашего болтонского дома построили эстраду, пригласили, наверное, человек четыреста, не меньше. Мне было всего восемь лет, но я мечтала появиться перед гостями в карнавальном наряде и со слезами упросила родителей, чтобы они позволили мне побыть на празднике хотя бы немножко. С костюмом помогла няня – я уже почти месяц была «лебедем» и хотела, чтобы это увидели все.

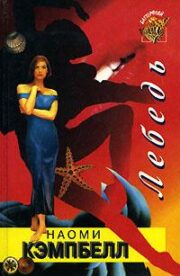
"Лебедь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лебедь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лебедь" друзьям в соцсетях.