— Но мне бы не хотелось оставлять ее незачтенной… Может, я отработаю? — слукавила я, надеясь на отрицательный ответ.
— Зачтут, — уверил Кирилл Михайлович. — Заполним как отработанную. Думаешь, охота нам за тебя нести ответственность? — Он усмехнулся и пропустил меня в цех, галантно распахнув дверь.
Бумагу с отмеченной по полной программе практикой мне выписали у начальника, поставили печать и, пожелав крепкого здоровья, велели собираться домой.
Я с радостью сдала халат и косынку.
— Кирилл, — попросил начальник цеха. — Не в службу, а в дружбу, отвези девчонку. Тебе далеко? — Он повернулся ко мне.
— Я сама, вы что! Я в порядке.
— Кирилл, отвези, сам понимаешь… И сдай прямо в руки мамочке. А то мало ли, по такой жаре…
Я сидела в новехонькой машине рядом с водителем и едва сдерживала восторг. Так, наверное, ощущают свое великолепие гениальные служители изящных искусств. Блистательные актеры, исполненные чувства глубокого удовлетворения, удаляющиеся после хорошо сыгранной премьеры за тяжелый бархат занавеса под выкрики «Браво!».
Кирилл искоса поглядывал на меня и наконец, не выдержав, свернул к обочине.
Машина замерла в тени густой, аккуратно подстриженной кроны китайской яблони. Кирилл внимательно посмотрел на меня из-под светлых, но длинных ресниц, о чем-то напряженно подумал и… захохотал.
— Поздравляю! — Зеленые искры брызнули из его глаз, заплясав по салону. Они проникли в меня и, дергая изнутри невидимые ниточки, озвучили озорные колокольчики ответного веселья.
Первоначальное смятение растворилось в неудержимом смехе. Кирилл сжимал мою руку, вытирал слезы и заливался, как ребенок.
— Поздравляю! — всхлипывал он. — Вот артистка! Молодчина, нечего сказать. Уха-ха… Я бы… Ха-ха-ха… так не смог. Ой ты, мать честная! Завидую!
— А я думаю, нет уж, дудки! Работать буду… Ха-ха-ха! — держалась я за животик. — Нет уж… Ха-ха-ха… Счетчик поставьте. А то как дурак: намотай-размотай, намотай-размотай.
— Ух ты, вот молодежь пошла. А я ей — потерпи… Ну, молодчина! Здорово подловила. — Смех постепенно сошел на нет, но глаза его все так же неотрывно изучали мое лицо. А пальцы так же ласково скользили по коже моей руки.
— Простите! — Мне вдруг стало неловко, но в то же время почему-то так хорошо и печально. Вот сейчас он отвезет меня домой, я выйду из машины, захлопну дверцу, и он уедет. А вместе с ним исчезнет из моей души нечто такое, без чего уже невозможно будет жить.
Невозможно смотреть на звезды и слушать пение цикад, невозможно читать стихи и летать во сне. Станет холодно и одиноко. Бесконечное, бессмысленное, бесплодное существование.
Но для чего, для чего тогда вся эта пустопорожняя суета, эти жалкие потуги самообмана, когда едва проглянувший свет заметает вечность?
— Простите, — повторила я тише.
Кирилл отпустил мою руку, нажал на газ, и машина тронулась с места. По глянцевой поверхности стекла поплыли редкие, полупрозрачные облака. Они уносили меня за край земли, в неугасимое голубое сияние зарождающегося чувства.
— Знаешь, Ира, мне ужасно осточертела эта работа, но в нашем маленьком городе я не вижу ей альтернативы. И я хожу в цех, как на казнь. Каждый день — от звонка до звонка. Но я смирился. Я смирился еще в твоем возрасте… Думал, пройдет время, и все как-то само собой образуется. Я привыкну, втянусь… — Он замолчал. Я тоже не находила, что ответить ему. Да и нужен ли был ему мой ответ? Вероятней всего — не нужен.
— Наверное, я мог бы уйти. Но самое интересное, что я действительно втянулся. Меня засосали эти тягучие, однообразные будни. И я с мазохистским наслаждением стал искать в них любую возможность, чтоб вызвать в себе хоть поддельное чувство радости. Да, веришь, я научился радоваться мелочам, получать от них удовольствие. Я стал гордиться собой… Но вот сейчас… — Он вздохнул и с сомнением посмотрел мне в лицо. — Кто его знает, что сложнее: сломить себя или сломить обстоятельства? Вот так-то…
— Не знаю, — пожала я плечами.
— И я не знаю… — Он снова вздохнул и снова посмотрел мне в лицо. — Видишь ли, мне показалось, что я почувствовал, о чем ты думаешь.
— О чем?
— Может, мне всего лишь показалось? Не хотелось бы выглядеть глупо.
Я старательно рассматривала пятнышко на лобовом стекле, оставшееся от погибшей мошки, и открывала для себя скрытые каналы, по которым проходят тайные токи безумно сложного и все же единообразного мира.
— Мы думали об одном и том же.
— О чем? — испуганно взглянула я на Кирилла.
— Я тебя довезу, ты выйдешь…
— Не надо!
— Почему? — Он помолчал, видимо, раздумывая, стоит ли продолжать, и все-таки решился: — Ты будешь смеяться, но у меня такое чувство, что я всю жизнь только тем и занимался, что готовился к встрече с тобой.
Я поймала себя на том, что слова Кирилла кажутся мне отголосками моих собственных мыслей.
— Я ждал, когда ты появишься… Я часто думал об этой встрече, пытался представить себе твое лицо, но… — Он поджал губы и полностью ушел в себя.
Я была озадачена. Я коротко кивнула, мне было интересно слушать его, но я боялась перебить ход его мыслей.
— Но я ни разу не мог увидеть тебя. А теперь вижу… кажется, — неожиданно закончил он, улыбнувшись.
Он задумчиво посмотрел на дорогу. На его лице проявились освещенные ярким солнцем редкие, но глубокие морщины. Мне показалось, что он очень устал. Я положила свою руку на его колено и попросила:
— Не надо…
— Почему же? — оживился он. Теперь Кирилл производил впечатление жесткого, решительного человека. — Теперь я вижу тебя, и мне… страшно!
Я вздрогнула.
— Ты умная девчонка, может, даже умней меня. Я вдвое старше тебя, а думаем мы почти одинаково. И ты, наверное, понимаешь, что я — трус.
— Не надо! — почти криком потребовала я.
— Ты выйдешь, и останется тоска, — выдавил он из себя. — Но даже если бы все произошло иначе… Ира, — Кирилл на секунду задержал веки закрытыми, — все равно тоска будет всегда. — Он молча покачал головой, словно проверяя правильность сказанного и подтверждая это.
Мотор урчал, пожирая километры. Пространство и время мелькали за тонированными стеклами, и было не ясно, едем ли мы, летим или плывем.
А ясно было лишь то, что голос Кирилла жил во мне и раньше. Он всколыхнул из глубин памяти давнее знание того, что я торопилась в эту жизнь ради встречи именно с этим человеком. Я торопилась, опаздывала и в конце концов опоздала. И что бы судьба ни уготовила мне дальше, это опоздание непоправимо. Втайне, боясь признаться самой себе, я знала, что Кирилл прав: тоска будет всегда.
Я вышла из машины за квартал от дома. Полуденный жар почти осязаемыми плотными клубами обволакивал все живое и неживое, преломляя панораму микрорайона и поднимая на своих упругих ладонях случайные пушинки. Он взмывал вдоль стен пятиэтажек, устремляясь в заоблачную высь.
Пространство и время застыли, а потом покатили вспять. Я шла к дому, а дом удалялся. Как призраки, возникали чужие дома на чужих улицах и так же, как призраки, таяли.
Стало казаться, что пространственно-временной тандем даже не покатился вспять, а неожиданно двинулся в неизвестном направлении. Передо мной возникали чьи-то фигуры, надвигались на меня, становились расплывчатыми лицами, потом губами. Губы шевелились, исторгали звуки, которые я не могла облечь в форму слов, чтобы осмыслить их, губы обиженно поджимались, отдалялись, искаженно перетекали в затылки и снова в нечеткие фигуры, но уже в другом ракурсе. Затем они истончались и растворялись в полумраке.
Но вот полумрак воцарился над всем миром, и время снова остановилось. Было странно, что остановившееся время почернело и сомкнулось надо мной звездным порталом.
Черный камень остро засветился изнутри. Меня не покидало страшное подозрение, что это и есть ожидаемый всеми Апокалипсис.
А я, беспомощная, не знаю даже молитвы, чтоб осмелиться поднять лицо к небу и тем самым хоть попытаться облегчить страдания своей болезной души в запредельных высотах.
Я заплакала. Мне кажется, это были мои первые слезы, рожденные не физической болью.
Вскоре слезы иссякли, на душе стало легче, светлее. Под стать внутреннему преображению пришло преображение внешнее: горизонт прояснился, и до моего сознания дошло, что уже предрассветный час. Я стремглав понеслась по сонным, пустым улицам под испуганные всплески вороньих крыл.
Лицо мамы было опухшим, веки красными, а голос надрывным:
— Где ты была?
— Нигде. — Я не знала, как ответить на вопрос матери коротко, а для того чтоб все объяснить подробнее, мне нужно было собраться с мыслями.
— Где, спрашиваю?
— Где… Где… — пробубнила я эхом, уныло замкнувшись. Маму же, наоборот, прорвало:
— Приехали! — Она застонала, заламывая руки и кусая губы. — Сопля бесстыжая!! Шлюха гулящая! Как я буду людям в глаза смотреть? По какой стороне улицы ходить? — Ее несло по инерции неуемного возбуждения. — Как ходить, спрашиваю?
Ощущение того, что все это происходит как бы не со мной, позволило мне абстрагироваться, уйти от малоинтересного выяснения отношений, и я отрешенно спокойным голосом произнесла:
— А как ходила, так и ходи.
— Ах ты ка-ка-я… У-умненькая! — Она подскочила ко мне и отвесила звонкую пощечину. — Где твой ум ночью витал? Где, спрашиваю?.. Задницей думала?
Мне вдруг вспомнился один мой приятель, который с выпученными от удивления глазами поведал мне о том, что, оказывается, у динозавров мозг располагался в области таза. За достоверность информации ручаться не приходится, но это неуместное воспоминание так развеселило меня, что я едва сдержала усмешку.
Даже невольная тень проявления подобной эмоции произвела эффект разорвавшейся бомбы. Мать задохнулась от ярости:

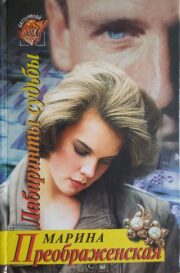
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.