Леша поцеловал меня в мочку уха, легонечко прикусив его зубами, и я замерла от нахлынувшей вдруг нежности.
— Леш, отвези меня в общежитие, — попросила я упавшим голосом.
— Зачем?
— Я не хочу жить в твоем доме.
— Почему? — Он поднял мое лицо и посмотрел своим теплым взглядом, от которого я всегда терялась.
— Я не могу жить в твоем доме… Когда тебя нет ночью, я страдаю. Я мучаюсь, жду… Я не понимаю, какие дела можно делать в ночное время в чужой спальне… Я не хочу приходить с тобой в гости, где ты тут же уединяешься с девушкой, предоставляя мне теряться в догадках и…
— Т-с-с-с. — Он прикрыл мой рот ладонью. — Не выдумывай глупостей. Мы говорили с ней о делах, и ничего более. Но если ты настаиваешь, то…
— В общежитие? — с надеждой посмотрела я на него, но в то же время чувство досады прорвалось в душу. Значит, я права, я не нужна ему! Он отвезет меня и тут же забудет.
— Вот еще! — Он удивился так, будто я предлагала переехать в общежитие ему самому, чтобы остаться хозяйкой в его доме. — Никаких общежитий. У тебя будет своя квартирка. В Сокольниках. Там, правда, всего одна комната, но тебе пока достаточно. Я не могу удерживать тебя силой в своем доме, но могу предоставить тебе вполне сносные условия при неограниченной свободе. Ну как?
— Не знаю, — пожала я плечами, стараясь скрыть, как я замерзла. Зубы мои застучали, по телу пробежал озноб.
— Пойдем в дом, — предложил Леша, и я, повинуясь ему, пошла следом.
Веселье было в самом разгаре. Насытившиеся и слегка опьяневшие гости куражились в пляске.
Тонкие, воздушные крылья юбок взлетали, обнажая бедра раскомплексованных женщин, туфли разлетались с освобождающихся от их узких тисков ног, норовя попасть в высокие китайские вазы по углам комнаты. Мужчины, сбросив пиджаки и смокинги, совершенно забыли о напускной важности и с гиканьем вились вокруг женщин, пощипывая их за попки.
Софья Людвиговна, надев потрясающий брючный костюм черного цвета, из крупной полной женщины вдруг превратилась в элегантную даму. Брюки из вареного шелка заманчиво струились по ногами. Блуза из панбархата дополнялась шикарным прозрачным блузоном, скрывающим бедра и обольстительно приоткрывающим соблазнительную грудь.
Софочка танцевала со своим Маратом, прижимая его к себе так, что тот терял ориентацию, норовя свалиться на пол или наступить кому-либо на ногу.
В комнату на минутку вбежала девочка лет шести, за ней приковылял карапуз трехлетнего возраста.
Девочка схватила со стола банан и с визгом помчалась прочь, а карапуз упал и, обиженно вздернув носик, неожиданно заплакал, первую секунду раздумывая, стоит ли это делать.
Он плакал и медленно поднимался с коленок, отряхивая брючки классической тройки. Блейзер с атласными лацканами превратил несмышленыша в прелестного кавалера. Этакого заправского франта. Но его слезы никак не гармонировали с подобным нарядом, и малыш, видимо почувствовав это несоответствие, стал расстегивать пуговки маленькими пухлыми пальчиками.
Пиджачок отлетел в сторону, и безутешный малыш, на которого так никто и не обратил внимания, остался в шелковой жилетке. В комнату вернулась девочка и, подхватив карапуза, понесла его из комнаты, что-то шепча ему на ухо. Тот разулыбался, вытер пальчиком бегущую по щеке слезинку и засучил ножками, изъявляя желание встать на пол и продолжить путь самостоятельно.
— Сергунюшка! — запоздало подошла к нему Софья Людвиговна. — Что ты тут делаешь? Здесь взрослые дяди и тети. Иди, маленький, иди. Наташенька, скажи Марии, что вам уже пора спать.
— Не хочу-у-у! — заверещал Сергуня, отбрыкиваясь уже от рук Софочки.
— Идемте, дети, — чинно произнесла Софья Людвиговна, и маленькая леди, сверкая роскошными оборочками нарядного платья, пошла за хозяйкой, совсем по-взрослому покачивая попкой.
Гости, немного уставшие от танцев, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, вернулись на свои места за столом.
— «Ты цыганочку можешь, Василий Иванович?» — спрашивает Петька, — начал рассказывать анекдот один из мужчин. — «Могу». — «А лезгинку?» — «Могу». — «А польку?» — «Могу», — отвечает Василий Иванович. — «А мазурку?..» — «Ну, Петька, — задумался Василий Иванович, — могу, наверное, только я что-то не припомню, что это за национальность такая?»
Подвыпивший народ склоняло к сексуальной теме, и шуточки вскоре приобрели сальный характер.
Я почувствовала, что мне хочется спать, и спросила у Леши, скоро ли мы отсюда уедем.
— Поехали, — моментально согласился Леша, и мы направились к гардеробу.
19
Раздался звонок в дверь. Я, мельком взглянув на циферблат, отметила про себя второй час ночи и тихонечко, не включая свет, пошла к глазку.
Жить одной в квартире было непривычно и немного страшновато. Я старалась не засиживаться допоздна, не гулять по вечернему парку и, максимум к десяти, приняв ванну и попив чаю с терпким липовым медом, забиралась под одеяло, кожей ощущая его пушистую нежность.
В этой квартире все было пушистым: и коврики, и полотенца, и халаты, и вот даже одеяло. Пушистым и светлым.
Когда Леша впервые привел меня сюда, эта маленькая квартирка в районе Сокольников показалась мне сказочным уголком. Мне все не верилось, что это чудо может принадлежать мне. Я разворачивала бордовые корочки своего паспорта и любовно рассматривала штамп прописки.
Москва… Москва? Москва!
Вот, думалось, закрою глаза, постою с минуту, потом открою, и все встанет на свои места. Все будет по-прежнему. Ну не может фортуна преподнести мне такой потрясающий подарок. Словно во сне.
Потом ничего, привыкла. Люди быстро привыкают к хорошему.
Баба Зина, домработница, совмещала обязанности и прачки, и кухарки, и уборщицы. Она была всегда весела и приветлива, ее расторопность и неутомимость поражали меня, но я испытывала некоторую неловкость, глядя на то, как она моет окна, рискуя вывалиться из окна четвертого этажа, как чистит ковры и закладывает в стиральную машину постельное белье.
Однажды я попыталась помочь ей, но она так активно запротестовала, замахала руками и захлопала глазами, что я даже испугалась.
— Ох, лапочка, не нужно! Да я за такие деньги не то что это гнездышко, я бы весь дом вылизала и обстирала.
Она усердно протирала пыль, снимая с полок фарфоровых слоников, любовно оглаживая каждого и ставя на место.
— У меня когда-то были точь-в-точь такие же. Во времена моей молодости слоники были почти в каждой семье. А для меня они — особая память. — Она подняла глаза к небу, сладко вздохнув. — Мне их подарил мой Николушка.
— Муж?
— Нет, к сожалению… Но мог бы им стать. — Она опустилась на краешек дивана. — Если бы я не оказалась такой дурой. — Она еще раз вздохнула. — Знаешь, девочка, это после войны было. Жили мы небогато, но и не бедно. Мой отец был профессором в университете, а Николушка у него учился. Однажды он пришел к нам в дом, а мы как раз обедали. Картошечка с тушонкой, огурчики соленые, чай, сухарики. А он — студент. То-ощий, аки вобла. Но глаза — огонь! Я заглянула в них и вспыхнула… До сих пор тлею. Он тоже посмотрел на меня и задохнулся. То он с отцом так непринужденно разговаривал, так легко, а тут сбился, стал заикаться. Отец видит такое дело, иди, говорит, дочка, к себе, мы побеседуем, а потом я тебя позову, будем вместе обедать.
За обедом Николушка молчал и только краснел все больше. А потом не выдержал, сказал: спасибо, я сыт. Ушел, так и не съев почти ничего.
Я бы про него забыла, но на студенческом вечере он пригласил меня танцевать, да возьми и сразу же ляпни: выходи, мол, за меня замуж. Я бы — не против! Я даже — за! Но так, в лоб? А он еще и добавил: если не выйдешь, мне придется из Москвы уехать, а так, может, с тобой оставят. Я теперь понимаю, что он хотел сказать, а тогда подумала: ах ты, рвань деревенская. Прописка тебе нужна, Москва нужна, а не я. Вырвалась и убежала.
— А он вас догнал, — попыталась я предугадать развитие событий.
— В том-то и дело, что нет. Я за дверью встала, еле дышу. Ведь знаю же, что полюбила его… Нет… Не догнал. Уехал в деревню. Я замуж вышла, он приезжал ко мне, цветов привез корзину.
— Целую корзину! — повторила я.
— Да-да. Огромную корзину, сам этот сорт вывел, на ВДНХ выставлял и ездил в командировки. У меня сын родился, потом дочь. А я все его любила, все о нем вздыхала.
— И он к вам заходил, когда в Москве бывал? — скорее утвердительно, чем вопросительно, посмотрела я в ее блекло-голубые, цвета осеннего неба глаза.
— Нет. Даже не звонил. Отец с ним поддерживал отношения и рассказывал мне о нем. Я смотрела на этот проклятый черный телефон и ждала от него хоть коротенькой весточки.
— А он женился? — поинтересовалась я.
— Если бы… Он умер. Я… — Баба Зина всхлипнула. — Я не выдержала ожидания, с мужем развелась и написала ему письмо. Прощения просила, к себе звала, о любви своей рассказала. — Она промокнула припудренные щечки салфеткой. — Все ждала его, ждала… Думала, прилетит, примчится, розами завалит. А получила письмо от его матери. Умер, мол, похоронили, и фотография его в конверте, еще студенческих лет.
Я к его матери ездила. Все ей про себя рассказала, про то, как дурой была, что подумала про эту идиотскую прописку… Мы с ней плакали на могилке… Она мне этих слоников и подарила. На память, значит.
Я подошла поближе к полочке и взяла самого маленького из них.
— Этих? — спросила я, понизив голос, словно боясь неосторожной интонацией поранить душу бабы Зины.
— Нет, не этих. — Она еще раз промокнула салфеткой слезящиеся глаза. — Те разбились при переезде. Один остался, так и его внучка куда-то затеряла.
Мне хотелось отдать ей всех семерых, но я понимала, что таких, как у меня, может быть несметное множество, а такие, как у нее, были в единственном экземпляре.

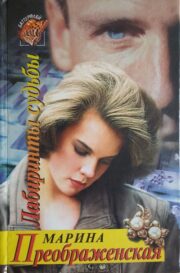
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.