Было предложено еще две профессии: столярное и слесарное дело, которые, по очевидным причинам, были отметены мною сразу.
Итак, я остановила свой выбор на специальности радиомонтажницы, и учебный процесс меня устраивал вполне. Но вот производственный! Да еще в летнее время! Это уж слишком!
Ежедневно в течение двух недель я должна была являться на завод и выполнять там по три часа определенные обязанности, постигая азы профессии и трудовой дисциплины.
Сколько же времени можно было бы нежиться в утренних, свежих от росы, мягких травах благословенного Закарпатья на берегу быстроводной Латорицы…
Белые занавесочки на окнах цеха и длиннохвостые традесканции в горшках приятно удивляли глаз, прохлада хорошо вентилируемого помещения настраивала душу на радостный лад, а бесплатные обеды должны были удовлетворять потребности растущего организма.
И все бы ничего, но сам процесс!
Вместо обещанной интересной работы, требующей хоть минимальных зачатков умственного развития и смекалки, мне было предложено нехлопотное место намотчицы трансформаторов.
Если кто-нибудь из вас, дорогой читатель, когда-нибудь мотал трансформаторы сотнями штук и при этом не был олигофреном в стадии дебилизма или японцем-трудоголиком, для которого работа уже почти религия, тот должен понять шестнадцатилетнюю мечтательно-восторженную непоседу. Как и всякий человек в этом возрасте, я была уверена в своей исключительной богоданности, в своей приобщенности к великой миссии на этой земле, и поэтому вынести муку неподвижного остолбенения перед вертящейся катушкой, при этом умудриться сосчитать сотни витков тончайшей металлической нити, затем обмазать их поверх изолирующей ленты клеем и потом, подвергнув проверке, обнаружив сплошной брак, обнажить до первоначальной основы, чтобы начать процесс сызнова… Так вот — вынести эту пытку я была не в силах! Первый же рабочий день поверг меня в неописуемое уныние.
Третий час во мне звучала одна-единственная фраза, обращенная ко Всевышнему: «Смилостивись, Господи. Ты же видишь, как я страдаю!» И к концу того самого третьего часа беспрестанной мольбы небо смилостивилось. В моей голове возник план.
Когда-то, еще в третьем классе, я, поддавшись напору своей подружки и соседки, так, за компанию, пошла записываться в театральный кружок местного Дома детского творчества. Очень скоро этот кружок мне пришлось покинуть из-за моей полной и бесповоротной бесталанности. Подружку оставили, и от нее я не раз слышала, что жизнь, как и театр, — игра. А мы в ней — актеры. Дальнейшее я поняла сама. Какую роль на себя примеришь, в таком спектакле и сыграешь. Подсунутое мне амплуа трагедийного актера в спектакле под названием «Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем» меня не устраивало.
Трезво рассудив, что, сменив роль, в случае «провала» я ничего не потеряю, но в случае удачи приобрету три летние дополнительные недели к урезанным каникулам, я решилась.
Итак, занавес!
— Ирка, давай на обед! — это ко мне.
— Валь, беги занимай очередь! — это к самой младшей в бригаде.
— Демина, идешь? Нет? — это опять ко мне.
— Иду… — Я вполне артистично, но стараясь не переиграть, изображаю слабое недомогание.
— Демина, тебя одну ждем.
— Иду. — Я медленно поднимаюсь со стула, медленно поворачиваюсь к станку, чтоб задвинуть стул, и, собрав весь свой опыт, накопленный за неделю пребывания в драмкружке, театрально поднимаю руку и так же медленно сползаю на пол.
Нечаянно задетая стойка с зеленолистыми, сочными растениями, взлелеянными заботливой рукой бригадирши, грохается вслед за мной и придает сцене естественность и непринужденность.
Глиняные черепки дрожат на линолеуме, оголенный корень традесканции тянется к утерянной почве, комьями рассыпавшейся вокруг.
Я же, уткнувшись лицом в поднятый над головой локоть, старательно задерживаю дыхание.
Дорогие мои! Если вам категорически заявляют, что вы лишены таланта, не верьте. Вы сами про себя мало чего знаете, где уж иным, которые дальше своего носа способны разглядеть разве что извергающий лаву Везувий, и то лишь после того, как запахнет серой.
Тишина воцарилась невообразимая. Было слышно, как звенит муха в противоположном конце цеха и остервенело бьется мохнатым тельцем о стекло: «зззз, бумц, бумц…»
Мне очень хотелось понаблюдать немую сцену. Но я уж и не знаю, как это получилось, в глазах моих действительно помутнело, лицо покрылось испариной, и я с трудом уловила момент, когда тишина треснула, и в эту трещину ворвался первый пронзительный вопль:
— Доктора! Позвоните в «скорую»!
— Зачем «скорую»? У нас свой есть. Эй, Валь, позови Фомича!
— И мастера сюда! Валь, мастера! Он у электриков!
Цеховое руководство, которое обычно фантомно-неуловимо, материализовалось во всем своем великолепии.
— Кирилл Михайлович, а мы… а она… — затараторила звонкоголосая бригадирша, обращаясь к мастеру. Вдруг все загалдели, наперебой пересказывая сцену, очевидцами которой они стали.
Из соседнего цеха прибежали электрики и вязальщики жгутов, начальник цеха о чем-то тревожно совещался с мастером, рявкнув на разом присмиревших женщин.
Скуден, однако, провинциальный край на развлечения. В обеденное время вопрос «хлеба или зрелищ?» был однозначно решен в пользу последнего, и уже только поэтому совесть моя была чиста.
Женщины суетливо занимали позиции поудобней, суетились вокруг меня, кудахтали, непонятно зачем давали друг другу советы относительно того, как следовало бы поступить.
Все слушали советы, но никто не решился подойти ко мне, хотя бы повернуть на спину, расстегнуть воротничок и смочить виски.
Когда в цех вплыл врач, все уважительно расступились, пропуская грузное неповоротливое тело на непомерно длинных ногах.
— Кирилл Михайлович, будьте любезны, — обратился он к мастеру.
Меня бережно повернули, и, предварительно прощупав запястье, прокивав в такт моему разжиженному пульсу бородатой, щекастой, практически безглазой головой в легком младенческом пушке седых волос, доктор многозначительно цокнул и еще раз попросил дребезжащим тенором:
— Будьте любезны, Кирилл Михайлович… — Он сам с трудом поднялся с корточек и, захлебываясь одышкой, многозначительно проронил: — Мда…
Кирилл Михайлович мягко подхватил меня за талию и повел мимо любопытствующих собригадниц. Я попыталась отстраниться, но он ласково шепнул:
— Ничего, миленькая. Потерпи. До медпункта совсем близко.
Кирилл, несмотря на свою далекую от аполлоновского эталона внешность, бесспорно, обладал тем неуловимым шармом и обаянием, которые притягивают женщин всех возрастов.
Он всегда был подчеркнуто вежлив и очень часто таинственно нежен. В бригаде его любили и уважали. Он редко поднимал голос на женщин, предпочитая решать все вопросы при помощи своего обаяния.
И, надо сказать, делал он это довольно успешно. Из него получился бы неплохой психолог или врач, а может быть, и учитель, поверни он на другую стезю во время юношеского поиска смысла жизни. Но это неважно, кем бы он мог стать. Здесь, на месте мастера в женском коллективе, он, кажется, занимался тем, к чему имел призвание. В одном лице являлся и учителем, и психологом, и врачом, когда в этом возникала необходимость.
От его нежного касания и тихого шепота в моей душе возникала такая истомная легкость, что я уже готова была устыдиться совершенного безобразия, извиниться и все объяснить, но что-то удерживало меня, и я, расслабленно прильнув к Кириллу, повиновалась его мягкой власти.
В медчасти меня еще раз прослушали, прощупали, дали таблетку и стакан воды.
Фомич, как по-семейному называли врача заводчане, прислушиваясь к собственному самочувствию, велел мне посидеть. Он сунул себе за щеку таблеточку валидола и уставился на меня внимательным взглядом.
— Сколько тебе, говоришь?
— Шестнадцать… Будет. — Я перевела взгляд на какой-то плакат, извещающий население о вреде алкоголизма, и стала старательно его изучать.
— Как же, как же… Здоровьице-то, оно, знаешь ли, штука серьезная. Не шутка, прямо сказать. Вон американцы скоро вымрут как нация. А у нас — здоровье прежде всего… В твои-то годы. Сколько, говоришь? — Он сдвинул брови, вспоминая мой возраст.
— Шестнадцать. Будет.
— Когда, говоришь?
— Двадцать второго… июня. — Я оторвала взгляд от красного носа на плакате и перевела его на нос Фомича. Нос врача оказался таким же карикатурно-красным.
— Вот видишь! — воскликнул он. — Двадцать второго июня! — Доктор отодвинул мою «историю болезни». — Июня? Вот видишь… У меня батя умер тоже… Двадцать второго июня. Давно, правда…
Я удивленно смотрела ему в глаза, пытаясь уловить логическую сцепку. Но он многозначительно поднял палец, сдвинул домиком брови и продолжил:
— И война к тому же… Вой-на! — Его указательный палец угрожающе завибрировал, словно война началась по моей вине, но неожиданно он поднял его вверх и четким движением поставил в воздухе воображаемую точку. — А тебе семнадцать.
— Шестнадцать.
— Ну да, я и говорю. Иди с Богом.
— А практика? — дрожащим от волнения голосом спросила я, осознавая свою несомненную гениальность.
— Практика? — Врач возмущенно посмотрел поверх нацепленных на толстую сливу носа очков. — Какая тебе практика?! В поликлинику! Обследоваться! Здоровье, деточка, здоровье! Локти будешь кусать, да поздно! Кирилл Михайлович… — Он переадресовал свое возмущение мастеру, решив, что я недостойна далее задерживать внимание такого занятого человека, и одновременно освободив себя от обязанности растолковывать столь очевидные вещи столь бестолковым гражданам.
— О практике не беспокойся, — сказал мне мастер, выходя из кабинета врача и приглашая меня последовать его примеру.

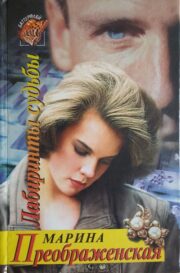
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.