– О, вы недоглядели: этой ночью я принимала не одного мужчину, а двух. Один был посланцем, объявившим мне о возвращении дожа. А другой… Но это вас не касается!
– Нет, нет, продолжайте! Он меня как раз и интересует! Редко случается, чтобы посланец дожа покидал дом, куда доставлял порученные вести, оборачивался и посылал воздушный поцелуй! Не знаете кому?
Лицо доны Лодовики покраснело от гнева.
– Думайте, что хотите, синьор. Тайна этого господина принадлежит не мне. Доверься я вам, так новость облетит всю Венецию с быстротой молнии. Я уже дважды приказывала вам уйти. Не заставляйте меня повторять это третий раз!
Микеле все-таки согласился сделать шаг к двери, но, не выходя из комнаты, предупредил:
– Что ж, я уйду. Но запомните хорошенько: даже и не пытайтесь отдалиться от меня и, разумеется, не пробуйте пожаловаться на меня вашему супругу, иначе я заговорю. В конце концов, совсем не обязательно знать, кто этот человек. Чтобы уронить вас в глазах всего города, достаточно разгласить о том, что по ночам, когда мужа нет дома, вы принимаете любовников. Забавная история, не правда ли?
Внезапно побледнев, Лодовика отвернулась. На лице ее появилась гримаса, выдававшая отвращение.
– Какое же вы ничтожество, Микеле Стено! До сих пор я испытывала вполне понятную жалость к вам и к вашей упорной страсти. Теперь вы вызываете у меня ужас!
– Ужас? Сделайте над собой небольшое усилие, моя красавица, и постарайтесь меня возненавидеть. Ненависть – такая близкая родственница любви, что дальше все пойдет легче. Что же до меня самого, то я не устану повторять вам, как я вас люблю, и этих слов всегда будет мало…
Галера приближалась к берегу, но совершенно вслепую. Туман, казалось, становился все гуще и гуще. Не заметив пристани Дворца дожей, корабль прошел мимо нее, а когда это обнаружилось, Марино Фальеро отказался возвращаться. Он приказал перебросить сходни.
– Мы у набережной, – сказал он, – этого достаточно. Я вполне могу сделать несколько шагов пешком. Если, конечно, мне удастся в этом тумане найти дорогу.
Дож в сопровождении свиты покинул корабль и почти наугад направился к Дворцу, смутно видневшемуся сквозь пелену тумана справа. Фальеро хотел пересечь Пьяцетту. Но внезапно туман расползся рваными клочьями, стали ясно видны разукрашенные флагами здания, люди, толпящиеся на площади, и дож смог наконец точно определить, где находится. А оказался он как раз между двумя высокими колоннами красного мрамора, одну из которых венчала статуя святого Теодора, а другую – крылатый лев святого Марка. Это был вход на Пьяцетту.
Дож нахмурился, по толпе пробежал испуганный шепот. Едва слышные звуки эти быстро затихли, но они показались Фальеро эхом того странного чувства, которое наполняло сейчас его душу. Это место между двумя красными колоннами, где он сейчас очутился, было местом казни. Здесь слетали в корзины под топором палача головы преступников. Случайно пройти здесь считалось дурным предзнаменованием. Но Марино Фальеро был не из тех людей, которые позволяют себе смутиться надолго. И уж конечно, не из тех, кто способен показать это смущение другим. Высокомерно пожав плечами, дож гордо поднял голову и направился ко дворцу, который отныне принадлежал ему. Толпа взорвалась приветствиями, колокола затрезвонили изо всех сил.
Когда несколько минут спустя Марино Фальеро увидел, что навстречу ему идет жена, сердце его сжалось и в глазах словно потемнело. В течение долгих месяцев, пока они были в разлуке, он постоянно вспоминал о ее несравненной красоте, но никогда еще эта красота не поражала его так, как в этот вечер. Лодовика казалась чем-то слегка испуганной, хотя ее огромные глаза светились нежностью. Дож страшно разволновался, но ответил на ее глубокий реверанс лишь тем, что ласково взял за руку, помогая подняться. Они пошли рядом по ступеням широкой лестницы. Простое пожатие руки, обмен взглядами – вот и все, в чем выразилась радость долгожданной встречи. Отныне они уже не принадлежат себе. Им предстоит существовать в роскоши и блеске, принимать почести, но придется отказаться от всякой частной жизни. Они теперь – собственность Венеции, чьим живым отображением станут… Три дня и три ночи будет длиться праздник. Они все время будут на виду. Такая долгая разлука. Как им хотелось оказаться наконец наедине в тиши их дворца на Большом Канале!
Дож еле слышно вздыхал, пока они вдвоем шли среди кланяющейся толпы. Но почему Лодовика так бледна? И почему она с таким гневом отвела глаза, когда в числе приветствующих их патрициев подошел Микеле Стено и преклонил колено перед троном?
Времена, которые переживала тогда Венеция, были слишком бурными, чтобы новый дож мог позволить себе заняться только семейными проблемами. На море, и особенно в городах Восточного Средиземноморья, открытых для торговли с Европой, до бесконечности затягивалась война с Генуей. Долгие годы эти два могущественных торговых порта вели борьбу за обладание главными восточными торговыми путями.
Правду сказать, война не очень-то пугала нового дожа: слишком хорошо он был с ней знаком. Ему часто случалось вести военные действия, когда он был губернатором Тревизо, потом – когда занимал пост подеста в Падуе. Да к тому же война прекрасно соответствовала его буйному и вспыльчивому нраву. Что может быть лучше для человека, не переносившего ни малейшего противоречия, ни малейшего сопротивления. Его шпага была столь же проворна, как его слова и его поступки. Разве не было известно, что, будучи губернатором Тревизо, он однажды отвесил хорошую оплеуху городскому епископу только за то, что этот несчастный осмелился опоздать на процессию, посвященную празднику Тела Господня? Венеции предстояло жить под началом жесткого и непреклонного хозяина. Но именно в таком властителе она тогда больше всего и нуждалась.
Прежде всего новый дож позаботился о возрождении флота. Фальеро вложил в это дело немало собственных средств, желая, чтобы флот был настолько мощным, насколько это вообще было возможно. Но великолепные корабли тщетно бороздили пространство от Адриатики до Босфора в погоне за вечно ускользающим врагом. Уже и зима наступила, а Николо Пизани, командующему венецианским флотом, так и не довелось увидеть парусов генуэзца Пьетро Дориа…
Между тем под самым носом дожа кипели иные бури. Микеле Стено неотступно преследовал Лодовику. Чтобы избежать его мести, которая могла бы подвергнуть опасности ее жизнь, супруга дожа вынуждена была принимать у себя молодого патриция не просто вежливо, но даже и благосклонно. Впрочем, это не только не помогло Микеле достичь своей цели. Скорее наоборот. Лодовика неизменно успешно ускользала из его сетей.
Несмотря на то, что богатый патриций Стено щедро оплачивал услуги соглядатаев, ему так и не удалось установить, кто был тот мужчина, которого он видел выходящим из дворца Фальеро ноябрьской ночью. Жизнь доны Лодовики была прозрачна и чиста, как драгоценный хрусталь. Отвергнутый воздыхатель исходил бессильной злобой, уверяя себя самого, что добродетель Лодовики надежно защищают лишь стены Дворца дожей.
А бедная женщина жила теперь в вечном страхе. Она не осмеливалась признаться мужу в том, что принимала ночью одного из своих кузенов, осужденного и изгнанного из города Советом Десяти. В память о детских годах, проведенных вместе в поместьях семьи Гардениго, он умолял о помощи. Его поддерживала надежда. Конечно, Лодовика сможет добиться, чтобы Совет сменил гнев на милость. Марко, так звали кузена Лодовики, поддерживал дружеские отношения с членами семьи Пьетро Дориа, командующего генуэзским флотом. Именно за это он и был изгнан. Просить за него сейчас значило погубить его окончательно. И вероятно, и себя вместе с ним. Лодовика была умна и предпочла подождать. Но как доверить подобную тайну, от которой зависит жизнь человека и участь всей семьи, такому болтуну, как Микеле Стено?
Шли дни, дона Лодовика чувствовала себя несчастной. Даже радость, которую она до сих пор всегда ощущала в присутствии супруга, теперь, казалось, покинула ее. Корона на голове, всяческие почести – все это было тяжелым грузом. Правда, муж ее постоянно находился рядом. Но это отнюдь не приносило удовольствия, на которое она рассчитывала. Прежде они чаще всего подолгу жили в разлуке. А теперь она все время ощущала чудовищную дистанцию, которой разделяла их разница в возрасте. Сорок лет – не шутка!.. Погруженный в государственные дела, Фальеро был с женой молчалив, проявлял безразличие, излишнюю рассеянность и даже иногда грубость. Лодовика обнаружила эти дотоле неизвестные ей качества и не знала, что и думать. Ее любовь к мужу, если она еще и продолжала жить в ней, приобрела совершенно иную окраску: теперь в ней доминировало уважение и глубокое восхищение. Но жизни ей это не облегчало.
Если бы Микеле Стено был хоть немного психологом, если бы он был менее эгоистичен, он бы понял, что, быть может, никогда ему не удавалось так близко подойти к желанной цели, как в эти ненастные дни, когда дона Лодовика принимала его в числе прочих с равнодушным видом и опущенными долу глазами. Прояви он чуть-чуть нежности, мягкости, истинного уважения к этой женщине, которая чувствовала себя на троне такой одинокой, он мог бы стать ее другом, исповедником, и, кто знает, может быть, простое доверие незаметно сменилось бы в сердце Лодовики привязанностью, а то и любовью. Но Микеле не привык к таким тонкостям в обращении, да и не считал это нужным. Чересчур порывистый и пылкий, юноша стремился одержать победу, причем полную победу, во всем и немедленно. Действуя, по чести говоря, глупо, он рассчитывал угрозами добиться в конце концов исполнения своих желаний.
– Все женщины – лгуньи, кокетки и вертихвостки, – поверял он свои тайные мысли другу Джанни. – Разумеется, я нравлюсь Лодовике в сто раз больше, чем ее престарелый супруг. Она и вышла-то за него только для того, чтобы угодить своему отцу. Но она слишком лицемерна, чтобы признаться в этом. Но ничего, я заставлю ее покориться. Я ничем не хуже других ее любовников!

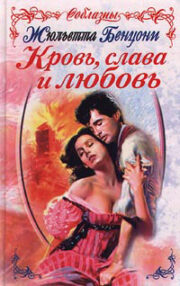
"Кровь, слава и любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кровь, слава и любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кровь, слава и любовь" друзьям в соцсетях.