Известная всем русским певцам «Не шуми-ка ты, мать, зеленая дубравушка» родилась на каторге. Как и романс «То не ветер ветку клонит».
Как известно, не миновал Сибири и гений русской литературы – Федор Михайлович Достоевский. За участие в кружке петрашевцев его осудили «согласно высочайшей конфирмации на четыре года каторжных работ в крепости с последующим определением на военную службу рядовым». В декабре 1849 г. была совершена над петрашевцами гражданская казнь, и спустя два дня Достоевский уже отправился в Омск, где 23 января 1850 г. зачислен был в арестантскую роту.
Эти нелегкие годы отражены в его знаменитых «Записках из Мертвого дома».
(*по материалам, собранным П. Кошелем)
Глава 22
В которой инженер Измайлов пытается свести счеты с жизнью, а Дмитрий Опалинский забывает поцеловать на ночь собственного сына
Поначалу он хотел оставить записку и в ней оправдаться. Потом решил, что это глупо и жалко. Ну в самом деле, какое ему будет дело там (где б это «там» ни было) до того, что станут думать о нем здесь совершенно, в сущности, чужие ему люди.
С природной дотошностью и обстоятельностью Измайлов привел в порядок все дела и бумаги в конторе. Потом отправился с визитом к Марье Ивановне и три часа подробно растолковывал ей тактику и стратегию, которая, на его взгляд, могла бы хоть на сколько-то задержать крах приискового хозяйства и снизить усиливающееся брожение среди рабочих. Марья Ивановна сначала по-бабьи качала головой и едва ли не цокала языком, глядя на Измайлова с тоскливой жалостью, как на придавленную телегой собаку. Подобное внимание было ему почти физически неприятно, но он довольно легко, ввиду дальнейшего, сдерживал себя, и в который уже раз повторял сказанное:
– В открытую конфронтацию с Верой Михайловой вам сейчас влезать резону нет никакого. Если и на их, и на ваших приисках добыча остановится, кому лучше будет? Все полицейские мероприятия в первую очередь времени требуют и отвлечения от работ. А вот на следующий сезон надо думать. Можно всю зиму тихонько вести компанию о незаконности их лицензии на добычу, о подпольной водке и прочем, то есть копать вовсе со стороны. А можно и вспомнить о нарушении контрактов, потребовать неустойку, обратиться к горному исправнику. Я почему-то склонен полагать, что он будет на вашей стороне, а не на стороне Алеши и Веры… И вот еще один вопрос, который требует пусть не немедленного, но все-таки разрешения. Совершенно непонятно: кто и каким образом осуществлял инженерную подготовку и разработку Вериных и Алешиных проектов? Одними бумагами покойного Печиноги, даже если они все и оказались в Верином распоряжении, тут не обойтись ни в каком случае… Это требуется выяснить хотя бы потому, что этот козырь из Вериной колоды может впоследствии пригодиться вам самой. Этот гипотетический и таинственный инженер…
– Я знаю, кто это, – тихо прервала Измайлова Марья Ивановна. – Не пригодится. Теперь уже не пригодится…Увы!
– Знаете? – Измайлов взглянул на хозяйку приисков с вялым удивлением.
Ну вот, как говорят англичане, еще один скелет в шкафу. Скелет, изволите ли, с инженерным образованием. Может быть, один из погибших здесь ранее инженеров погиб… ну, скажем так, – не до конца? Но кто же? Печинога? Валентин Егорович? Или этот, третий… Впрочем, какая мне-то разница! – подумал Измайлов и не стал ничего более спрашивать, хотя Марья Ивановна явно ждала его вопросов и готовилась к ним. Чужие секреты и раньше-то были Андрею Измайлову без надобности совершенно, а уж теперь…
Осторожно, но решительно свернув разговор, он откланялся. Машенька явно не хотела его отпускать, что-то такое незначащее спрашивала, показывала, просила прочесть… Так и казалось, что вот-вот задаст какой-нибудь вопрос, бессмысленный и во всей красе любопытствующей неуместности: «А как же вы полагаете, все так вышло-то, с Ипполитом-то Михайловичем?» – или еще что-нибудь в том же роде. Однако, удержалась, за что Измайлов немедленно преисполнился к ней благодарности. После подивился себе: отчего это он сам, все решив, еще испытывает какие-то вполне отчетливые человеческие чувства? Вроде бы невместно уже. Надо о чем-то таком думать… О чем подумать уместно в его положении, инженер так и не успел сообразить до окончания тягостных прощаний. «А ведь она после корить себя станет, что не разгадала теперь, не удержала… Плакать будет, чего доброго,» – вдруг подумал он, и на теплой человеческой волне этой сочувственной мысли поднес к губам небольшую пухлую руку Марьи Ивановны и почтительно поцеловал.
– Спасибо вам, Марья Ивановна, за привет, за ласку, за все…
Машина рука ощутимо вздрогнула, и он вмиг понял, что расслабившись, открылся неумеренно.
– Что? Почему? – немедленно затревожилась хозяйка приисков. – Почему вы так сказали? Вы как будто прощаетесь. И все эти объяснения… Про зиму… Разве нельзя потом? Вы… Вы что, уехать решились? Бросаете нас? Признайтесь, Андрей Андреевич!
Голос Марьи Ивановны дрожал и переливался, как горлышко у певчей птички в клетке. В Сибири их часто держат в придорожных трактирах в общей зале для развлечения гостей. Когда певунья перестает петь или, что случается чаще, умирает, ее выбрасывает вон и сажают в освободившуюся клетку новую.
Измайлов поморщился. Вот только не хватало нынче начать кого-нибудь жалеть. Хоть бы и Опалинскую…
– Я не собираюсь никуда уезжать из Егорьевска, – ровно сказал он, и это была сущая правда. Маша облегченно вздохнула, а Измайлов немедленно ощутил себя виноватым.
«Господи, да избавлюсь ли я от этого треклятого чувства хоть на твоем пороге!» – искренне взмолился он, и тут же внутренне усмехнулся неуместности этой искренности в его, атеиста, устах.
Чувство своей собственной, личной вины за все, когда-то, в молодости, весьма угнетало его, но потом он прочел в каком-то высокоумно-напыщенном, но не лишенном здравости мысли труде: «ощущение своей вины перед страдающим народом является лакмусовой бумажкой передовой российской интеллигенции», – и как-то слегка успокоился на свой счет. Поскольку точно определить, где кончается народ и начинается «не народ» не мог никто и никаким способом, то получалось, что волноваться не из-за чего. С тех пор Измайлов воспринимал свое чувство вины, как нечто природное и имманентно ему присущее, тягостное, но тем не менее вполне нормальное, такое же, к примеру, как ранняя лысина или склонность к нервному поносу.
Когда Измайлов вышел во двор и скрылся из вида окон Машиных покоев, новая мысль пришла ему в голову. «А ведь нехорошо в доме с собой кончать, – подумал он. – Большинство людей суеверны неисправимо, и не мое дело их за то осуждать. Дом, он по определению должен быть местом надежным, безопасным от всякой нечисти. А какая ж безопасность, ежели тут висельник висел? Или, к примеру, задушили кого… Нет, кончать с собой надо в каком-то более потребном месте. Не в чистом поле, конечно, да это и вообразить нельзя. Надо, чтобы укромно было, но людей не поганило. Вот, амбар, к примеру, подходит. Или конюшня. И технические проблемы сразу решатся…» До того Измайлов долго и серьезно, с инженерной точки зрения, думал о том, как бы это все обустроить технически, чтобы было просто и надежно одновременно. Все придуманные им «домашние» варианты получались весьма спорными. Понятно, что в сарае или амбаре все это решить легче.
«Да и чего тянуть? Надо кончать скорее, – сказал сам себе Измайлов. – Вот этот вот, старый гордеевский амбар ничем других не хуже. А то, чего доброго, начну еще сам себя уговаривать, выдумаю чего-нибудь такое, за что позже стыдно станет… Когда это – позже?… – с подозрением спросил он сам себя. – Вот именно! Уже и началось. Надо – сейчас! Главное, чтобы не подглядел никто и не помешал.»
Решив так, Измайлов исподтишка, но тщательно огляделся. Никого из домашних или слуг во дворе нету. Из окон? Нет, из окон тоже никто не смотрит. Да и поздно уже, скоро темнеть начнет. Марья Ивановна уверена, что он ушел, и также любому скажет. Еще раз внимательно осмотрев двор, Измайлов решительно направился к старому амбару, у которого, кроме выходящих на улицу ворот (чтобы телега могла въехать), была еще небольшая, ниже человеческого роста дверца со стороны огорода. На дверце висел большой замок, впрочем, не запертый.
Согласно теоретическим представлениям Андрея Андреевича, он, как человек, завершающий по собственной воле жизненный круг, должен был сейчас испытывать лихорадочное возбуждение; может быть, страх или, наоборот, душевный подъем ввиду грядущего освобождения от всего, что привело его к столь драматическому решению. Вроде бы следовало вспоминать всю прожитую жизнь, мысленно прощаться с друзьями, родными и возлюбленными… Увы! Ничего этого не было и в помине. Единственным чувством была скука, усталая и пыльная, как и все в полузаброшенном амбаре.
Потом скука переросла в какое-то подобие обиды на судьбу.
– Ну вот, все у меня не как у людей, – пробормотал Измайлов, стоя, изогнувшись, на широкой полке и привязывая веревку с заранее заготовленным и разработанным узлом-петлей на толстую потолочную балку.
Дальше следовало увидеть какую-нибудь жизненную, банальную, но пронзительную в связи с обстоятельствами мелочь. Измайлов огляделся, ни на что не надеясь, и тут же наткнулся на потребную «мелочь»: на полке, под большим глиняным черепком сидел крохотный, зеленоватый, еще голенастый мышонок и внимательно смотрел на инженера черными бусинками-глазками.
«Прощай, брат! – с наигранной патетикой подумал Измайлов и приободрился. – Ну, хоть что-то, как положено».
И тут же вспомнил, что не успел сжечь или иным образом уничтожить красную тетрадь. Вот незадача! Да еще нательный крест, материнская память. Кажется, с крестом вешаться нельзя. Да и несподручно.
Кряхтя, Андрей Андреевич слез с полки, снял с шеи крест, вложил его между страницами тетради и стал соображать: что бы с ней такое сделать? Оставлять тетрадь в кармане, на потребу праздному любопытству егорьевцев, казалось немыслимым, разводить в амбаре костер – тоже. В конце концов, Измайлов пристроил ее в выкрошившуюся выемку между бревнами в самом темном углу амбара, и заткнул устье подвернувшимся клоком пакли. «Никто и никогда не отыщет! – удовлетворенно подумал он. – Будут думать, что я, как и Печинога, сжег ее… Интересно все-таки: откуда несчастный Матвей Александрович так непременно знал, что его убьют?…Ну ладно, хватит тянуть. Пора и к делу…»

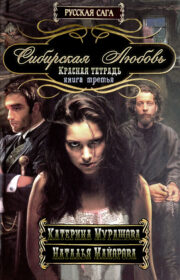
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.