Аминь.
– Что же мне делать-то, матушка?
– Молись!
– Я уж молилась…
– Еще молись!
Агнешка сгорбилась у ног сидящей на узкой лежанке старухи и горько зарыдала. Сестра Евдокия не мешала ей, смотрела перед собой строго и беспечально. Она уже позабыла то время, когда сама могла плакать вот так – открыто и светло, с надеждой на скорое облегчение, которое придет невесть откуда, но придет непременно.
– Я знаю, она ему зелья какого-то шаманского подлила, – отрыдавшись, сказала Агнешка. – Иначе чтоб он на нее-то, черную да старую, польстился… А у тебя, матушка, нет ли чего такого…?
– Стыдись! Перед Господом…
– Вот еще! – Агнешка строптиво выпятила и без того полную нижнюю губу. – Надоело! Сызмальства все твердили: стыдись, девка, блюди себя! И что ж? Семнадцать лет уже, а сижу тут взаперти, как на каторге…
– Окстись! Не видала ты каторги! – зло оборвала служанку сестра Евдокия.
«А ты, что ли, видала?» – захотелось спросить Агнешке, но отчего-то она так и не решилась. Кто и что знает про Евдокию? Откуда и когда пришла? Кто такая, из каких? Монашка? Послушница? Никогда и никому про себя не рассказывала. Жизнь всегда вела самую простую, и даже строгим обычаем упрекнуть не за что. Но отчего-то оказалась же теперь не в монастыре, а в самом разбойничьем логове – на заимке у Черного Атамана. Жила поодаль, в маленькой избушке с низкой дверью и земляной крышей, на которой обильно росли трава и кусты. Ела в день – хлеба кус, да кваса кувшин. Молилась неустанно. А еще?
– Столько всего занятного вокруг происходит, а я как бы и на берегу сижу, – с нешуточной обидой сказала Агнешка. – Все мимо меня течет…
– Так некоторые вещи как бы и к добру, если мимо, – усмехнулась Евдокия.
– Вот взять бы и старуху Гликерию, – словно не услышав, продолжала девушка. – Я уж к ней и так и этак, и подать, и принести, и «чего изволите», а она меня ровно не видит. А с этой…. с черной да косоглазой, разговоры ведет, узоры ей какие-то кружевные показывает, да мережки… Неужто родному сыну такую напасть пожелаешь? С эдакой-то связаться…
– Ты, Агнешка, молчи больше, – посоветовала Евдокия. – Да молись. Язык твой до добра не доведет. Как уж они там промеж себя разберутся – не твоего ума дело. А лучше бы тебе и вообще подальше отсюда убраться. Нехорошо тут. А скоро и еще хужее станет.
«А что ж ты сама-то не уберешься?» – снова завертелся на кончике языка вопрос. Хотя и он так и не был задан, однако, Евдокия ответила.
– Надо мною-то уж давно мир силы не имеет, – медленно сказала она. – Один Господь мне судья. А ты – другое дело, молодое. Свернешь в юных годах с тропинки, а после и дороги торной не найти…
– Да уж как-нибудь, – пробормотала Агнешка. – Разберемся.
– Ну гляди, – выговорила Евдокия. – Я тебя предупредила. А там как знаешь…
Роман Веревкин торопился, глотал слова и еще более, чем обычно, походил на тощего и встрепанного весеннего грача. Неухоженность и какая-то не выверенная эволюцией, случайно отмеренная почтенность. Грач. Измайлов стоял у раскрытого окна и рассматривал малую букашку, ползающую по подоконнику. Букашка как будто бы видела его и иногда угрожающе поднимала передние лапки (или что там у нее?) и потрясала ими в направлении инженера.
– Вы понимаете, Андрей Андреевич, ведь выхода никакого нет. Иначе бы мы вас и беспокоить не стали. Гавриил теперь под гласным надзором, ему и шевельнуться невмочь. Я – у хозяйки живу, у нее только на пятках глаз нету, а язык не то что до Киева – до Владивостока без труда дотянется. Коронину с его семейством, сами понимаете… Мы хотели отца Андрея просить, так у него у самого, как назло, именно сейчас какие-то неприятности по их, поповской линии случились. Вот и получается… Столько труда товарищей в этот побег вложено, я вам и объяснять не стану. Не хуже меня знаете. Теперь уж обратного хода нету. Да и заминка небольшая, всего дня четыре-пять переждать, а потом отправим товарища Максима дальше…
– Веревкин, вы вообще-то соображаете, что говорите? – Измайлов изо всех сил старался лениво растягивать слова и ему казалось, что у него получается. Подумал было, не цыкнуть ли щелью в зубах, но потом решил, что это уже будет лишнее, переигрыш, даже Веревкин может догадаться. – ВЫ предлагаете мне спрятать у себя беглого каторжника? Разумеется, политического? Доверить мне жизнь и свободу товарища? Но ведь еще недавно вы полагали меня провокатором, сексотом?
– Ах, оставьте, оставьте! – Веревкин замахал руками так отчаянно, что в тихом летнем воздухе до Измайлова долетел ветерок. – Это Ипполит, в запале… Я всегда говорил… Разумеется, это тот хлыщ, который провоцировал нас рассказами об императоре… ВЫ уж не держите на нас зла, ибо положение действительно отчаянное. Товарищ очень ослаб, нуждается хоть в каком отдыхе. ВЫ же в позиции почти идеальной – живете один, вне всяких подозрений и надзоров…
– Послушайте меня, любезный Роман Игоревич! – Измайлову надоело ломать комедию. Он обернулся и взглянул Веревкину прямо в глаза. – Вы можете теперь думать обо мне что угодно, но только никакой товарищ Максим ни в коем разе в мой дом не войдет. По одной простой причине: не знаю уж, кому это понадобилось, полиции, жандармам или еще кому-то третьему, но только у кого-то я крепко сижу на крючке. И чем это может обернуться в любую минуту – просто не знаю. Ко мне сейчас и на версту лучше не приближаться…
– Что? О чем вы говорите? – удивился Веревкин. – За вами следят? Вам угрожают? Кто? Зачем? Вы что, заболели? Приступ паранойи?
– Ах, называйте как хотите, – Измайлов устало махнул рукой.
Веревкин сгорбился и как-то длинно перекрутился всеми своими членами, словно взявшись оправдать фамилию.
– Впрочем, могу дать совет, – продолжал Измайлов. – Спрячьте его в зимовье, в котором прошлой осенью Надя Коронина выхаживала меня. Думаю, что сейчас там совершенно никого нет.
– Действительно? – задумался Веревкин. – А далеко ли это выйдет от тракта?
– Довольно, чтобы всяческие случайности исключить. Если, конечно, сделать все тайно.
– Смышлено, смышлено… – пробормотал Роман Игоревич, но тут же вновь всполошился. – А кто ж его туда отвезет-то? Мы все под наблюдением. Нельзя же Наде одной…
– Я отвезу его вместе с Надей. Один дороги в тайге не найду. Когда?
– Завтра в ночь он прибудет.
– Значит, послезавтра с рассветом. Все. Уходите, Роман Игоревич.
– Иду, иду. Спасибо, что зла не держите, – Веревкин растрогано прижал руки к сердцу и вышел.
Измайлов покатал на скулах желваки и захлопнул окно, раздавив попутно несчастную букашку.
– Пора, господин исправник, пора. Лучше, чем нынче, случай вряд ли представится…
– А не торопимся ли мы? – с сомнением протянул Семен Саввич, с брезгливою миною присаживаясь на пенек. Пенек был низок и общий вид получался неубедительный совершенно. Однако и стоять тоже больше мочи не было никакой – ноги в сапогах гудели и ныли. – Можно было бы за эту ниточку потянуть, проследить всю цепочку… И из Ишима, из жандармского управления советуют все взвесить, прежде чем хватать кого ни попадя…
– Оставьте, право! – визави Овсянникова пренебрежительно махнул рукой. – Это беглый-то политический – «кто ни попадя»? Ну тогда я уж и не знаю! Что такое за манеры у нынешней охранки – тянуть до тех пор, пока поздно не станет? Куда удобнее распутывать лесу, когда рыбка уже у вас в руках, не так ли? И сколько раз самые блестящие комбинации срывались лишь оттого, что кто-то не осмеливался сделать решительный шаг. Сколько бунтовщиков скрылись за границу, иным образом сорвались с крючка! А кого станут винить, если и в этот раз выйдет что-то подобное? Меня? Нет, мое дело маленькое. Я свое прокукарекал, а там хоть не рассветай. Вас, дорогой Семен Саввич, вас станут винить, если рыбка хвостиком махнет и уплывет незнамо куда. А еще хуже, если товарищи загодя слежку почуют и всю лавочку-то и свернут до лучших дней. Переведут, так сказать, кадры в резерв. А у вас даже и в руках-то ничего не останется. Что тогда делать станете?
– ПО сути если рассудить, вы, конечно, дело говорите… – задумчиво произнес Овсянников.
Видно было, что он еще не принял решения.
Товарищ Максим оказался низкорослым, носатым и откровенно чахоточным малым. Впрочем, был тих, в разговоры почти не вступал, послушно залез в телегу под рогожу и лежал там, лишь изредка приглушенно покашливая в кулак. Боковой, малопроезжий тракт был безлюден. Хриплые рассветные крики птиц напоминали о недалекой осени. Какой-то большой хищник или падальщик долго летел низко над дорогой впереди повозки, медленно взмахивая крыльями и ничуть не боясь людей. Лошади фыркали и трясли головами. Летящая впереди птица им явно не нравилась. «Может быть, они как-то все же знают, что бывает с лошадьми после смерти?» – подумал Измайлов.
В зимовье было душно, пыльно и остро пахло сушеной травой. Из-под лежанки метнулся к открывшемуся выходу какой-то узкий темный зверек. Должно быть, куница промышляла сбежавшихся на просыпанную крупу мышей. От травной трухи бедняга Максим раскашлялся так, что согнулся пополам и никак не мог разогнуться. Измайлов поддержал его под локоть, тот взглянул из-под мокрых от испарины волос блестящими умными глазами больной собаки. Надя деловито шуршала вокруг и обещала немедленно заварить больному траву, облегчающую грудное стеснение. Инженер против воли оглядывался, и все искал каких-то ему самому неведомых признаков их с Надей прошлогоднего единения. Ничего не находилось.
Наскоро обустроив Максима и сославшись на неотложные рабочие дела, Измайлов с облегчением покинул зимовье, поручив Наде дальнейшие заботы о больном.
– Ты не останешься? – спросила Надя на краю поляны, положив руки ему на грудь. – Ты помнишь, здесь…
– Помню, помню, – торопливо откликнулся Измайлов. – Но я правда не могу. И… это же невозможно сейчас… тут же Максим…

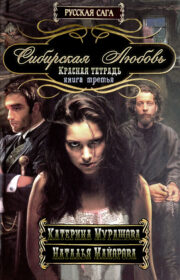
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.