На пороге появилась кое-как одетая Марья Ивановна с распущенной косой, опирающаяся на трость. Видно было, что крик, эхо которого еще звенело в утреннем воздухе, метнул ее к выходу прямо на середине свершавшегося утреннего туалета.
– Что тут случилось? Господи! Что с ней?! Кто она?!
Роза и Самсон хлопотали над Гликерией Ильиничной, которая все никак не приходила в себя. Митя сел на ступеньки и обхватил голову руками.
– Я спрашиваю: кто она такая?! – повысила голос Машенька.
– Дмитрия Михайловича Опалинского матушка, – мертвым голосом ответил муж и вдруг истово, размашисто перекрестился. – Слава тебе, Господи! Кончилось!
Рыжие, всклокоченные вихры обрамляли горящие глаза и расплющенный на стекле нос Волчонка. Грязные пальцы свободной руки осторожно поскреблись в переплет.
Матвей быстро оценил ситуацию, вскочил и молча указал большим пальцем направо, туда, где за углом дома было открытое, прикрытое кисеей от мух и комаров окно, ведущее в маленькую, «ничью» комнату. Если Волчонок не зашел с крыльца, стало быть, к тому есть причина и дело у него тайное.
Помогая приятелю перевалить через подоконник, Матвей заглянул вниз, твердо рассчитывая увидеть еще две рыжие головы. Никого не было.
– А где Лисенок с Зайчонком? – удивленно спросил он.
– Дома остались, смотрят.
– А ты?
– Я услыхал – Мефодий в поселок едет, залез под рогожу и вот – тут я, – объяснил Волчонок. – Там у нас такое…
– Ну! Расскажи! – от нетерпения Матвей переступил ногами на месте.
– А где Соня?
– Хочешь, чтобы я позвал ее?
– Позови! Пусть послушает.
Рассказ Волчонка и впрямь оказался странным. Матвей и Соня не знали, что и думать. После окончания рассказа и весьма сбивчивого обсуждения Волчонок склонился к Матвею и что-то прошептал ему на ухо.
– Ты теперь иди, – предложил Матвей Соне. – Нам вдвоем поговорить надо.
Мальчик с тревогой смотрел на сестру: не станет ли обижаться и плакать? Но Соня не обиделась. То, что у Матвея появились с Волчонком отдельные дела, она восприняла как должное. В конце концов, она первая начала. Да и никакой уверенности, что она хочет все знать про их задумки, у Сони не было. «Меньше знаешь, крепче спишь!» – так всегда говорил остяк Алеша. Что-то в этом, несомненно, было. Хотя за Матюшу, конечно, страшно…
Подумав, Соня отправилась на кухню, к маме Вере. Вера вместе с кухаркой ставила тесто для пирогов. Пахло бузиной и свежей опарой. Несмотря на кисею на окнах, мухи вились под потолком и время от времени пикировали к кастрюле с опарой. Вера отмахивалась от них локтем. Лишь искоса взглянув на приемную дочь, она отослала кухарку под каким-то явно надуманным предлогом. После ждала, не прекращая кухонных дел, но как бы видимо освободив часть разума и внимания под то, что скажет девочка.
– К Дмитрию Михайловичу Опалинскому приехала из России мать, – сказала Соня. – А он ее не признал сначала. И она – его.
– Господи! – Вера остановилась в движении и прикрыла глаза.
(«Как будто лампу погасили,» – подумала Соня.)
Веки женщины были исчерчены коричневыми продольными морщинами, и с закрытыми глазами она казалась едва ли не на десять лет старше, чем с открытыми.
– Сначала? А что же – потом? – Вера всегда, в любом сообщении безошибочно выделяла тот элемент, который был потребен для развития сюжета.
– Потом старушку в гостиной внизу положили, а Дмитрия Михайловича Марья Ивановна наверх увела, – Соня старалась восстановить последовательность в сбивчивом рассказе Волчонка. Она знала, что именно так любит слушать мама Вера, и изо всех сил желала угодить. – А после он ее сразу и вспомнил, а она его – так и нет. Да она, впрочем, и в память почти не приходила. Только попросила ее опять в «Луизиану» перевезти. Дмитрий Михайлович было воспротивился, а Марья Ивановна и Роза сказали: пускай, если ей так лучше будет. Причем, то, что он ей все эти годы деньги слал, она помнит, а самый его облик – никак. Мы думаем, может, она заболела чем? Вроде как у хантов – мерячка. Они тогда, бывает, тоже память теряют, и даже себя не помнят…
– Опять, значит, Марья его уговорила… – себе под нос пробормотала Вера. – Бедная, бедная старуха… Всю Россию проехать… Теперь, небось, думает, что сына и в живых-то нету… Да и не лучше ли – так то? Нужна ли ей правда?… Хотя… матери сын по-любому живой нужен. Что материнское сердце не простит?…
– Какого сына, мама Вера? – решилась встрять Соня. – Дмитрий Михайлович ведь жив и здоров вполне…
Вера испытующе посмотрела на дочь. Девочка стояла, чуть склонив на бок белокурую головку, и смотрела внимательно и серьезно.
«Выросли уж они», – с легкой печалью подумала Вера и вспомнила себя в Сонином возрасте. Пасла гусей, пекла и варила, присматривала за младшими, пока родители в поле, прибиралась в избе, ходила за скотиной. Жала, полола, копалась в огороде. Пряла, шила. Единственную куклу давно отдала сестре, сама себя дитем не считала. Да и окружающие ее люди – тоже. А Соня еще и читать-писать умеет, сто книжек прочла, и редкая из них для детского ума приспособлена…
– Я скажу тебе. Но ты обещай не болтать.
– А Матюше можно сказать?
– Сама решай… Старушка эта права, и вовсе ума не лишилась. Муж Машеньки Гордеевой – не сын ей. Да и не Опалинский он вовсе…
– Как?! А кто ж он?!… Мама Вера! – Соня умоляюще заглянула в желтые, горящие непонятным огнем глаза. – Скажи мне сейчас, иначе я сама ума лишусь!
– Сергей Алексеевич Дубравин.
Соня прижала ладони ко рту и медленно сползла на пол, осознавая услышанное. Вера смотрела на девочку с горькой усмешкой, и вполне умеренно злилась на себя за то, что из собственной прихоти взвалила на худенькие детские плечи.
«Ничего, пора им и вправду расти, – жестко решила она в конце концов. – Лучше на чужие кружева сперва поглядеть, а потом уж свои узоры навязывать…»
Опасливо косясь на Веру и ничего более не спросив, Соня вышла из кухни. Вера пожала плечами и снова вернулась к тесту.
– Ты должен со мной ехать, – утвердил Волчонок. – Я не сумею сказать. И коня надо…
– Ты думаешь, она сможет – верхом?
– Ногами точно – не сможет.
– Гречку можно взять. А еще? Воронок к себе не подпустит.
– Я могу любую лошадь уговорить, – сказал Волчонок.
– Как это?
– Слово знаю.
– Ладно, – сказал Матвей. – Цыган нашелся. Но, если что, пеняй на себя, я тебя предупредил. Только надо теперь дождаться, пока мама Вера уйдет…
– Будем ждать, – согласился Волчонок и опустился на корточки в углу. – Соня, давай книгу…
Трактирщица Роза боком сидела на стуле и, яростно втыкая иголку, шила блузку, опять разорвавшуюся по пройме. Формой и размером распяленная на спинке стула блузка напоминала парус небольшого судна.
– Как разобрать? Как понять? Чего творится? – в такт движениям спрашивала Роза.
Самсон сокрушенно качал почти лысой головой. Сказать ему было нечего. Он и сам ничего не понимал.
Вывернувшийся откуда-то Волчонок кивнул бабке с дедом, сдержанно приласкался к Хайме.
– Юрочка, – рассеянно отметила Роза. – А где Лиза и Анна?
– Дома, – ответил Волчонок. – Я Матвею мельницу покажу. Которая в кладовке. Можно? Потом на ручей снесем…
– Да, да, конечно, играйте… – мысли Розы были страшно далеки от игрушечных мельниц.
Самсон проводил мальчиков удивленным взглядом: до сего дня он никогда не видел Волчонка в обществе иных детей, кроме его собственных сестер.
Гликерия Ильинична лежала в подушках. Ее укрывала пухлая розовая перинка, похожая на раскинувшуюся в истоме свинью. На фоне белизны наволочек и розовости перинки серо-желтое лицо пожилой женщины, обрамленное неопрятно растрепавшимися кудельками, казалось мертвым. Глаза ее были полузакрыты, под веками быстро и странно ходили туда-сюда зрачки. В полузабытьи Гликерия Ильинична видела, как пятилетний Митя нашел во дворе таз с горячим крыжовенным вареньем и торопливо ест его с помощью подобранной тут же палочки, облизывая ее. Темно-золотистые капли падают на траву, толстенькие митины ножки нетерпеливо притоптывают вокруг табуретки. Он сопит и пытается подцепить прозрачные ягоды, которые медленно, но неуклонно соскальзывают с палочки обратно в таз.
– Митенька, не надо, опрокинешь все на себя, обожжешься! – в страхе кричит Гликерия Ильинична.
И вдруг видит, что вместо темных и шелковистых волнистых волос у ее мальчика всклокоченная рыжая шевелюра, вздернутый нос и некрасивые коричневые веснушки по всему лицу.
– Ты не Митя! – с ужасом вспоминает она. – Митя умер… А ты хочешь меня обмануть!
– Ну, я, конечно, не Митя, – внезапно соглашается ее сонное видение. – Я – Матвей. И обманывать мне вас ни к чему. Тем паче, что ваш Митя, кажется, тоже не умер, а просто стал разбойником… Если вы меня понимаете, конечно…
– Что? Что ты говоришь?! – Гликерия Ильинична подскочила на кровати, перинка съехала, открыв отделанный кружевами ворот рубахи и виднеющуюся в нем высохшую грудь. Кожа Гликерии Ильиничны напомнила Матвею тонкую и пыльную гофрированную бумагу, в которые Вера заворачивала стеклянные елочные шары, убирая их после Рождества в коробку. – Кто ты такой? Откуда взялся?
– Я пришел сюда с Юрием, внуком Розы и Самсона, – рассудительно сказал Матвей, решив, что домашняя кличка Юрия старушке наверняка не понравится. – Но то, что я вам сейчас скажу – тайна. Вы можете не поверить мне и отказаться… Я бы на вашем месте сам, наверное, не поверил, – честно признался мальчик. – НО, если вы хоть словечко кому-нибудь расскажете, то ничего не будет. Никто вам ехать не позволит…
– Да куда ехать-то? О чем ты? – вязкая темная пелена, которая уже почти совсем затянула разум Гликерии Ильиничны, потихоньку отступала. Кажется, в ее жизни, которую она со вчерашнего дня полагала оконченной, должно произойти что-то еще. – Матвей, да? Начни еще раз, Матвей, и попытайся мне объяснить…

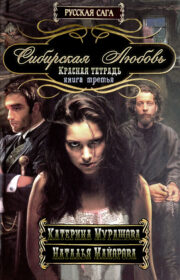
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.