И вдруг я увидела молодого человека возле нашего экипажа… очень близко. Он смотрел прямо на меня, и в руке у него был пистолет. Казалось, что все это замерло. Уже не в первый раз я смотрела в лицо смерти — и в очень схожих обстоятельствах.
В одно мгновение Браун слетел с козел; он бросился на молодого человека и швырнул его на землю. Артур также выскочил из экипажа. Он схватил человека, которого Браун уже одолел.
Я была потрясена. Вокруг стала быстро собираться толпа. Человека, хотевшего убить меня, увели. Браун с тревогой взглянул на меня.
— Ну что, все в порядке?
— О, Браун, — сказала я, — вы спасли мою жизнь. Браун буркнул что-то, и мы поехали обратно во дворец.
Я легла в постель. Так мне посоветовали. Я думала, что это уже шестая попытка убить меня. Кто этот молодой человек, думала я. Каковы были его побуждения?
Вскоре прибыл мистер Гладстон. Фамилия молодого человека была О'Коннор. Артур О'Коннор; он был ирландец; и это не было серьезное покушение, так как пистолет оказался не заряжен.
— Это не делает проворство Брауна менее достойным похвалы, — сказала я.
Гладстон склонил голову. — Какая преданность! — продолжала я. — Какая верная служба!
— О'Коннор сказал, что он только хотел напугать вас, чтобы вы отпустили заключенных фениев[71]. Он не собирался стрелять. Он только хотел вас напугать.
После ухода Гладстона я с любовью подумала о Джоне Брауне и о том, как мне выразить ему свою благодарность. Я решила дать ему медаль в память этого происшествия и прибавить двадцать пять фунтов в год жалованья.
Когда мои намерения стали известны, Берти — который, как и остальные члены моей семьи, не любил Брауна, — сказал, что Артур тоже выскочил из экипажа и схватился с О'Коннором.
— Да, после того, как Джон Браун уже держал его, — возразила я.
— Артур проявил храбрость и не получает за это никакой признательности. Вся заслуга приписывается этому типу Брауну.
— Разумеется, нет. Я закажу для Артура золотую булавку для галстука.
— Что ж, — сказал Берти, — хоть что-нибудь. Конечно, это не сравнить с золотой медалью и двадцатью пятью фунтами в год, но все же лучше, чем ничего.
— На что Артуру медаль и двадцать пять фунтов в год? Я немало потрудилась, чтобы обеспечить ему ренту. Вы, дети, иногда бываете неблагодарны, и я не понимаю, почему вы так не любите бедного Брауна. Он уделяет мне больше заботы и внимания, чем я вижу в своей семье. Берти возвел взгляд к потолку, воскликнув:
— Славный Джон Браун! Против него и слова не скажи. Берти иногда становился совершенно неуправляемым.
Вся эта забота и внимание, которыми он пользовался во время болезни, все последующее обожание явно вскружили ему голову.
Гладстон объявил мне, что О'Коннора приговорили к году тюремного заключения. Я ужаснулась.
— Одному году! А что будет, когда он выйдет? Что, если он предпримет новую попытку? Я бы хотела, чтобы его выслали из страны. И не потому, что я желаю для него более сурового наказания. Я знаю, что он безумен. Но мне не хочется думать, что он где-то здесь, в Англии.
Гладстон произнес целую речь о законах и о том, что приговор суда не может быть изменен. Однако, поскольку я настаивала и они поняли мои опасения, О'Коннору предложили оплатить проезд в любую страну, так чтобы он мог уехать, вместо заключения. Он с готовностью принял это предложение. Когда он уехал, я почувствовала себя в большей безопасности.
Я получила очень печальное письмо от Феодоры. Она умоляла меня приехать, потому что она боялась, что если я вскоре не приеду, то, возможно, мы уже больше никогда не увидимся.
«Я очень больна, — писала она, — и что-то говорит мне, что жить мне недолго. Я хочу увидеть тебя, прежде чем умру. Я хочу проститься».
Когда я сказала мистеру Гладстону, что собираюсь посетить Баден-Баден, он покачал головой и произнес одну из своих речей.
Последние события, сказал он, такие, как болезнь принца Уэльского и покушение О'Коннора, способствовали росту нашей популярности. Мы должны стараться сохранить ее. Мы не должны потерять то, что нам удалось приобрести. Мы не должны делать ничего, что могло бы уменьшить эту популярность.
— Моя сестра очень больна, — сказала я. — Я намерена посетить ее. И я поехала.
Моя милая Феодора! Как она изменилась! Как не похожа она была на веселую и красивую девушку, сидевшую в саду, где я поливала цветы, и флиртовавшую с кузеном Августом.
Она сильно располнела; исчез ее яркий румянец, и я сразу же увидела, что она на самом деле очень больна.
— Я рада вновь увидеть тебя, — сказала я. Она очень расчувствовалась, говоря о прошлом.
— Ты была таким милым ребенком, — сказала она, — такая сердечная, любящая, наивная. Я была очарована моей младшей сестричкой.
Это было печальное свидание, потому что мы знали, что больше не увидимся. Поэтому мы говорили о прошлом, это был лучший способ не думать о будущем. — Дядя Георг увлекался тобой, — напомнила я. — Ты могла бы стать королевой Англии. Я думаю, ты бы ею и стала, если бы мама этого захотела.
— Мама предназначила эту роль тебе.
— Да, — сказала я. — Она хотела править за меня, что бы ей не удалось, если бы ты стала женой дяди Георга.
— Тебя не поражает, сестричка, какая бездна возможностей в нашей жизни? Если бы ты сделала то… если бы ты сделала это в какое-то время, весь ход твоей жизни мог бы измениться. Я согласилась, что мне это приходило в голову.
Время летело быстро. Иногда мы выезжали в экипаже. Феодора была слишком слаба, чтобы ездить верхом или ходить. Она говорила, что я не должна посвящать ей все мое время.
— Милая сестрица, — отвечала я, — я для этого и приехала. Если бы ты видела, как посмотрел на меня мой премьер-министр, когда я сказала ему о своем отъезде. Но я твердо решила ехать, несмотря ни на что.
— Тебе не нравится мистер Гладстон. Его здесь очень высоко ценят. Его считают очень сильной личностью.
— Может быть, и так, но мне трудно с ним разговаривать. Как жаль, что народ не избрал Дизраэли. Я рассмешила ее, подражая Гладстону и его манере говорить.
— Я всегда чувствую себя как публика на собрании, когда он обращается ко мне. У него очень симпатичная жена. Мне часто бывает жаль ее, что ей достался такой муж.
— Может быть, она его любит.
— Как это ни странно, но похоже, что да.
— Каждый видит людей по-своему.
Это были какие-то призрачные дни. Иногда я забывала, насколько она больна. Она настояла, чтобы я осмотрела кое-какие достопримечательности. Мне показали излюбленные места лиц, пользующихся самой дурной репутацией в Европе. Но больше всего мне запомнилось орудие пытки, применявшееся инквизиторами. Оно называлось Железная дева — клетка, стенки которой состояли из лезвий ножей. В объятия этой Девы, как тогда говорили, бросали так называемых еретиков. Я никогда не видела ничего подобного и никогда это не забуду.
Пришло время проститься с Феодорой, и мы расстались с взаимными изъявлениями любви. Мы обе знали, что это наша последняя встреча, и старались быть мужественными. Мы расцеловались с глубоким чувством. Мы всегда были дружны. Единственное разногласие между нами возникло в период этого ужасного шлезвиг-гольштейнского конфликта, когда она просила меня поддержать ее зятя, а я, по известным причинам, не могла оказать никакой поддержки.
Эти чудовищные войны приводили к семейным размолвкам! Но наша размолвка была теперь забыта, и мы с горькой нежностью сказали друг другу последнее прости.
Вернувшись домой, я застала Гладстона в полной готовности прочитать мне очередную лекцию. Раскачиваясь «с пятки на носок», он стоял передо мной и высказывал свои мнения по разным вопросам. Он сказал, в частности, что принцу Уэльскому не мешало бы иметь какое-нибудь занятие. Это понравилось бы народу.
— Какого рода занятие? — спросила я.
Гладстон считал, что, поскольку отец принца интересовался наукой и искусством, можно было бы попробовать что-нибудь из этой области.
— Принц-консорт был знатоком архитектуры.
— Принц Уэльский — это не принц-консорт, — возразила я. — Будь он больше похож на своего отца, у нас было бы меньше оснований для беспокойства.
— Быть может, ему подошла бы благотворительность, — продолжал Гладстон, раскачиваясь и распространяясь о филантропии, как будто я никогда о ней не слышала. Он утомлял меня больше, чем кто-либо, кого я когда-либо знала. В конце концов я сказала:
— Я не вижу смысла строить какие-то планы в отношении принца Уэльского. Говорят, что он хороший дипломат. Пусть он делает, что ему предложат, но бесполезно принуждать его заниматься искусством, наукой или филантропией. Это его никогда не заинтересует.
Казалось, Гладстон согласился со мной, но выразить свое мнение просто он не мог. В конечном счете было решено на время предоставить Берти самому себе. Смерть никогда не ограничивается одним ударом! Как я с ужасом ожидала, умерла бедная Феодора. В Чичестере скончался Наполеон. Как печально, что с его грандиозными планами он кончил жизнь в изгнании.
Одним из самых грустных событий была смерть графини Биконсфилд. Бедный Дизраэли был убит горем. Он так глубоко все переживал. Он писал мне длинные письма, и я отвечала выражением сочувствия. Никто лучше меня не знал, что значит Потеря спутника жизни. Я понимала это как немногие, я ощущала глубину его горя.
Он сказал мне, что ей был восемьдесят один год. Что же, это очень почтенный возраст. Ему самому было шестьдесят восемь. «Я знал, что она уйдет раньше меня, — писал он. — Но это не смягчает нанесенного мне удара».
Бедный, бедный Дизраэли, сердце мое было полно сострадания. Он писал такие прекрасные, такие грустные письма. Они возрождали воспоминания о моей собственной потере. Смерть его жены, казалось, сблизила нас.

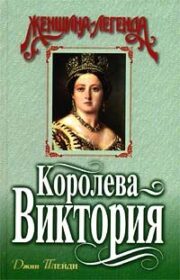
"Королева Виктория" отзывы
Отзывы читателей о книге "Королева Виктория". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Королева Виктория" друзьям в соцсетях.