— Жизнь часто трудна, дорогая, — отвечала Лецен. Пререкания продолжались. Король настаивал на своем. Не думаю, что это его волновало всерьез, но он так не любил маму, что не желал ей уступить.
— Она будет на ее законном месте или ее вообще там не будет, — сказала мама.
Так оно и вышло. Я плакала от огорчения. Мне так хотелось быть на коронации, к тому же я терпеть не могла ссор.
Однако единственное, что мне осталось благодаря маминому упрямству, — это наблюдать за коронационной процессией из Мальборо-хаус.
После коронации по стране шло много споров из-за билля о реформе[6]. Лецен была об этом хорошо осведомлена и все мне объяснила.
— Все началось с так называемых «гнилых местечек». Население этого «местечка» менее двух тысяч, но они могут избрать своего члена парламента, в то время как другие, с гораздо большим населением, могут послать в парламент тоже только одного представителя. А у некоторых вообще нет права голоса.
— Мне это кажется очень несправедливым, — сказала я.
— Ваше мнение совпадает с мнением большинства, — заметила Лецен.
Я понимала, что происходившее в стране очень серьезно, и начала беспокоиться, когда услышала о разразившихся бурных волнениях. Когда мы выходили на прогулки, я видела на стенах плакаты: «Дайте нам наши права».
— Люди верят, что, если закон будет принят, все их мечты исполнятся, — объясняла мне Лецен.
«Каждый получит все» — прочла я на другом плакате. Я не представляла себе, как это может быть.
— Когда люди одержимы какой-то идеей, они предъявляют нереальные требования. Они верят всему, что им говорят, — сказала Лецен.
— Я бы не поверила, — заявила я.
— Конечно, нет. Вы хорошо воспитаны. Я научила вас думать самостоятельно… смотреть правде в лицо, какой бы неприятной она ни была.
— Народу не понравится, если закон примут и они обнаружат, что не получили всего.
— Это будет им уроком, — сказала Лецен. — Я слышала, как одна из горничных говорила, что, если закон будет принят, ее Фред женится на ней и они купят домик в деревне.
— Как она будет разочарована, — вздохнула я.
— А дети верят, что, когда примут закон, им не нужно будет больше ходить в школу. Будут сплошные пикники и клубничный джем.
— Поэтому они и бунтуют?
— Они бунтуют потому, что, хотя закон был принят палатой общин, палата лордов его не пропустила, и лорд Грей просил короля созвать новых пэров[7], чтобы можно было его провести.
— Но я не понимаю, Лецен, если закон не утвердили и нужно вводить новых людей, чтобы провести его… зачем вообще его проводить?
— Вот тут-то и начинаются все проблемы, моя милая. Король отказал лорду Грею, и тот подал в отставку, так что у короля не оставалось иного выбора, как призвать Веллингтона. Веллингтону побили окна в его дворце Эпсли-хаус. Говорят, что Веллингтон — самый непопулярный человек в стране.
— Ведь не так много времени прошло с тех пор, как он был самым популярным после Ватерлоо?
— Вот видите, как качается маятник. Самый популярный человек сегодня становится самым непопулярным завтра.
Я долго размышляла о билле о реформе. Было несправедливо, что малое количество людей могли посылать представителя в парламент, в то время как тысячи других тоже посылали одного, а некоторые вообще не могли голосовать. Конечно, многие из них были необразованны и не знали, за что они голосуют. Они даже свое имя написать не могли, не говоря уж о голосовании. Все это было очень сложно. Но мне было очень неприятно слышать о бунтах. Я всегда их боялась, так как наслушалась о французской революции и на уроках истории страдала вместе с бедной Марией-Антуанеттой и Людовиком XVI[8], которые так потерпели от толпы и даже самым унизительным образом потеряли головы.
Я испытала облегчение, когда Веллингтон смог составить кабинет министров и вскоре был возвращен лорд Грей. Новые пэрства были созданы, и билль о реформе стал законом. Места в парламенте стали распределяться в соответствии с числом жителей в избирательных округах. В стране воцарился мир.
Но, когда я думала о том, как внезапно и безвозвратно Веллингтон утратил восхищение и любовь народа, меня огорчало людское непостоянство, ведь каковы бы ни были его личные взгляды на реформу, он спас Англию от Наполеона при Ватерлоо. Мне было очень грустно при мысли о толпе, разбивающей окна в Эпсли-хаус.
Я все больше и больше сознавала ответственность, которую мне пришлось бы взять на себя, если бы судьба, предназначенная мне моей матерью — то есть то, что принадлежало мне по праву рождения, — когда-нибудь осуществилась.
Коронация короля Уильяма не укротила стремления моей матери показывать меня народу и принимать полагавшиеся мне почести. В августе мы отправились в Уэльс. Перед отъездом мама подарила мне тетрадь, в которой она приказала мне вести дневник. Так я впервые познала радость записывать свои мысли, но я, конечно, прекрасно знала, что каждое слово будет прочитано мамой. Поэтому я была очень осторожна. Я выражала свое восхищение только природой и тем, что могло понравиться маме. Я не могла писать о моей неприязни и подозрительном отношении к сэру Джону Конрою, а так хотелось. Я не могла удержаться от смеха, воображая, что бы произошло, если бы я так поступила! Поэтому, хотя я аккуратно вела свой дневник, я не упоминала в нем о своих тайных мыслях. И мама была очень довольна, так как считала меня наивной, следовательно, более податливой.
Из Лондона мы отправились в Бирмингем, Вулвергемптон и Шрусбери. На месяц мы сняли дом в Бомэрисе, и я вручала призы на Уэльском фестивале певцов и поэтов. Пока мы там находились, вспыхнула эпидемия холеры, и было поспешно принято решение ехать дальше.
Мы побывали в стольких местах, что теперь, оглядываясь назад, я боюсь, что путаю одно с другим. Но я помню, что мы останавливались в Четсворте и посетили хлопкопрядильные фабрики в Белпере.
И я помню Оксфорд, потому что там сэр Конрой получил степень доктора гражданского права и стал почетным гражданином города, что меня очень раздражило, но все-таки меньше, чем посещение университетской библиотеки, где нам с гордостью показали тетрадь с латинскими упражнениями королевы Елизаветы. Я взглянула на нее и сразу же поняла, что латынь она знала лучше меня. Все ахали от изумления, восторгаясь ее способностями в столь юном возрасте.
— И ей было только тринадцать лет! — сказала мама, глядя на меня сурово, потому что мне было как раз столько же.
— Сомневаюсь, чтобы кто-либо превзошел ее когда-либо, — сказал старый джентльмен, показывавший нам библиотеку.
Этот визит и самодовольство сэра Джона по поводу выпавших ему почестей испортили мое впечатление об Оксфорде.
Поэтому я с радостью возвращалась в Кенсингтон. По дороге произошло еще одно событие. Я перешла в новое для себя состояние — я стала взрослой девушкой.
Как только мы вернулись во дворец, мама включила в свой штат еще одну даму. Это была леди Флора, дочь маркиза Гастингса. Мама сказала, что она станет мне подругой, но она была на двенадцать лет старше меня, и они с Лецен сразу же невзлюбили друг друга, так что до дружбы нам было довольно далеко. Я начала понимать, что хотела бы выбирать себе друзей сама.
В Кенсингтонский дворец теперь приглашалось много выдающихся людей. Я помню, какое благоговение я испытала, представляясь сэру Роберту Пилю[9], о котором я много слышала от Лецен. Он был очень симпатичный. С ним был лорд Пальмерстон[10]. Он говорил со мной серьезно, как со взрослой, и в то же время дал мне понять, что считает меня привлекательной. Я должна признаться, что мне это очень понравилось. Было очень приятно встречать таких важных людей. Я даже смягчилась немножко по отношению к сэру Джону. Мама любила собак, и он подарил ей самого очаровательного спаниеля, какого я когда-либо видела. Я его сразу же полюбила и уверена, что это чувство было взаимным. Он тут же подошел ко мне и уставился на меня своими прекрасными глазами.
— Какая прелесть! Чей он? — спросила я.
— Он мой. Его зовут Дэш. Его мне подарил сэр Джон.
Даже это не могло изменить моего чувства к Дэшу. Каждый день я с нетерпением стала ожидать момента, когда смогу войти в комнаты мамы, чтобы увидеть его. Однажды мама сказала мне:
— Я думаю, Дэш на самом деле твоя собака.
— Он прелесть.
— Мне кажется, вы сразу понравились друг другу. Сэр Джон говорит, что я должна отдать его тебе.
— Правда? — Я покраснела от удовольствия.
В комнату вошел сэр Джон. У меня всегда было такое чувство, что они заранее обсуждали, что мне сказать и в какой момент ему следует появиться. Это было вроде пьесы, где актеры дожидаются за кулисами своего выхода.
— Я знаю, он вам нравится, — сказал сэр Джон, улыбаясь своей противной улыбкой.
Но я любила Дэша и хотела, чтобы он был мой, поэтому не обращала внимания на мерзкое выражение его лица.
— Я действительно его люблю, — сказала я.
— Тогда… он ваш. Я взяла его на руки. Он все понял, потому что сразу начал лизать мне лицо.
— Нельзя, Дэши, — сказала я, и он радостно залаял. — Благодарю вас, мама.
— Я полагаю, ты благодарна сэру Джону за такой подарок.
— Благодарю вас, сэр Джон, — сказала я с некоторой неохотой. — Можно мне его взять?
— Да, конечно, — сказала мама, милостиво улыбаясь. — Я прикажу отнести к тебе его корзинку.
Итак, осчастливленная, я удалилась с Дэшем. Но сэр Джон от этого не стал мне больше нравиться.
Я была очень счастлива. Дэш внес такое разнообразие в мою жизнь. Я купала его, играла с ним, повязывала ленту ему на шею, постоянно повторяя ему, что он мой.
Дэш не был единственным удовольствием, которое я получила в тот год. Мой учитель музыки сказал, что, раз я так интересуюсь пением и даже сама пою, меня можно взять в оперу.

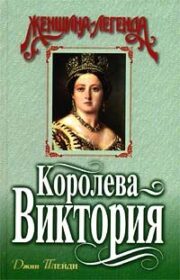
"Королева Виктория" отзывы
Отзывы читателей о книге "Королева Виктория". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Королева Виктория" друзьям в соцсетях.