— Вы меня совершенно неправильно поняли. Я только хотел…
— Поблагодарить меня. Мне кажется, я понял вас слишком хорошо. А обратили ли вы внимание на камины в других комнатах? Насколько тепло сегодня утром в караульном помещении?
Этого разговора Уилфриду было вполне достаточно. Он никогда больше не совал свой нос куда не следует. Однако, когда человек умирает, уходит навечно в мир иной, он заслуживает особого отношения. Даже вокруг постели старой, бедной крестьянки собирается родня, совершается своего рода последний обряд. А королева Англии умирала в своей измятой, грязной постели, и рядом никого, кроме ополоумевшей от страха старухи.
Когда стемнело, священник со вздохом поднялся с кровати, досадуя на необходимость прервать отдых; но он достал из шкафа и надел свою лучшую рясу и тщательнее обычного вымыл лицо и руки.
Николас как раз кончал ужинать. Перед ним стояло блюдо с клубникой. Он деликатно брал каждую ягодку за зеленую веточку, обмакивал ее в густую смесь из сливок и меда, затем аккуратно и неторопливо отправлял в рот. Минуя свое обычное место за столом, священник подошел к сэру Николасу.
— Если вы пришли объяснить, где вы провели последние дни, то не трудитесь, — проговорил сэр Николас добродушно. — Вы выглядите очень утомленным, мой друг. Какое несчастье. Присядьте, пожалуйста. Выпейте немного вина. Эй, вы… вина господину Уилфриду…
— Сэр… Сегодня днем я побывал у королевы, и мне кажется, вы должны знать… — начал Уилфрид.
— Но на дворе июнь, нет необходимости переживать о холодном камине!
Прошло семь, нет, восемь лет, а он все помнил ту единственную промашку!
— Сэр, она умирает… от чумы. Это было четыре часа назад, сейчас она, возможно, уже мертва.
Сэр Николас обмакнул в сливки с медом и положил в рот очередную клубнику. Проглотив ее, он заметил:
— Неужели? Довольно скоро… Однако чума расправляется порой очень быстро. Когда я два дня назад делал обход… Впрочем, не имеет значения! Думается, его величеству будет приятно услышать.
«Очень может быть, — подумал священник, — но сказать такое вслух — дурно и бессердечно».
Возмущение придало ему мужества, и голосом более твердым, чем обычно, он проговорил:
— Людей часто обуревает раскаяние, когда объект их ненависти умирает. А ее величество лежит при смерти или уже мертвой в условиях, недостойных даже самой последней крестьянки.
То были самые смелые слова, которые священник когда-либо произнес за всю свою жизнь, и они подействовали. Сэр Николас отодвинулся от стола и встал.
— Сейчас разберемся. Пойдемте со мной.
Чувство исполненного долга не возместило священнику полностью отложенный, но столь необходимый ужин и не помешало ему с тоской взглянуть на искромсанную тушку зажаренного молодого барашка.
Королева лежала в той же позе, в какой ее оставила Кейт.
Только хриплое, ужасно медленное дыхание свидетельствовало о том, что она еще жива. Осматривая голое, грязное, лишенное элементарных удобств помещение, будто никогда не видел его раньше, Николас впервые внезапно подумал: а не слишком ли буквально он истолковал приказ относительно «строгой изоляции и никаких излишеств»: И словно защищаясь от обвинений, которые пока никто не выдвигал, он ухватился за возможность проявить некоторую заботу.
— Она не должна лежать без присмотра. Где ее служанка? Старая ведьма. Вероятно, сбежала от страха.
Выскочив в коридор, Николас позвал караульного, который, стараясь выгородить Кейт, доложил, что она недавно вышла подышать свежим воздухом после долгих часов, проведенных в комнате больной. Караульный произнес все это таким тоном, точно Кейт должна вернуться с минуты на минуту.
— Поди приведи Марту, скажи ей, чтобы захватила метлу, свечи, чистые простыни и новое одеяло.
Николас возвратился и, оставшись стоять в дверях, соединявших внутреннюю и внешнюю комнаты, стал размышлять над словами священника о раскаянии, которое охватывает людей, когда умирает объект их ненависти. Ему вспомнились многочисленные рассказы о поведении короля после смерти Бекета. Но то было, конечно, убийство по его приказу, а здесь совсем другой случай. И все же потом король очень переживал и сожалел о том приказе. Как бы он не стал сожалеть и о своем распоряжении — «никаких излишеств».
Лишь при свете внесенных свечей Николас заметил деревянную доску с нарисованной мишенью, чернильницу и перо, которые Кейт — как всегда неряшливая, — сняв с колен Альеноры, положила прямо на пол возле кровати. Николас какое-то время рассматривал эти предметы, потом подошел к больной и поднял ее безжизненную руку. Как он и предполагал, пальцы были в чернильных пятнах. Следы от чернил виднелись и на доске, там, где перо соскальзывало с бумаги. Даже глупец мог догадаться, что все это значило, а Николас не был глупцом. Несомненно, королева, еще будучи в сознании, что-то писала. Схватив свечу, он бросился в другую комнату к столу, на которой лежал большой пергамент: быть может, королева в последний момент одумалась и все-таки подписала чертов документ? Но нет. Пыль на пергаменте являлась еще одним свидетельством скверного содержания помещений королевы. На пыльном столе было отчетливо видно, где до сегодняшнего утра стояла чернильница и лежало гусиное перо.
— Прекрати, — сказал он Марте, начавшей прибирать спальню. — Ищи письма, любые исписанные предметы.
Сам Николас обыскал внешнюю комнату, но ничего не обнаружил. Да и оборудовать тайник было невозможно. В помещении находились лишь стол и две деревянные скамейки. На каменном полу — несколько грубых тростниковых циновок, не менявшихся много лет. Стены тоже сложены из камня, без всяких щелей и ниш.
— Здесь ничего нет, — сказала Марта, когда Николас заглянул в спальню.
— Ты посмотрела под кроватью и в постели?
— Да, — ответила она, кивнув на соломенный тюфяк Кейт.
— Проверь и в другой постели.
— Тревожить умирающего — дурная примета, — сказала Марта, отступая.
— Сейчас же проверь, я приказываю.
Но женщина не шевельнулась, а только молча стояла и таращила глаза. Она, как и все слуги, очень боялась Николаса, однако суеверный ужас оказался сильнее всех остальных страхов. Ему ничего не оставалось, как самому приняться за дело.
Содрогаясь, но действуя решительно, он убедился в том, что написанное королевой в последний светлый момент не спрятано под подушками или среди простыней.
И когда до сознания Николаса дошло все значение случившегося, лицо покрылось холодным потом. Король, отдавая приказ де Гланвиллу, а тот, в свою очередь, повторил его Николасу, особо подчеркнул, чтобы к королеве без особого разрешения не допускались никакие посетители и пресекались всякие попытки с ее стороны наладить переписку. И вот ей все-таки удалось отправить куда-то послания. И видимо, очень важные. Человек, заболевший чумой, не станет писать о пустяках. Старая колдунья Кейт, безусловно, замешана. Николас вновь кинулся в коридор.
— Куда старуха, по ее словам, пошла?
— Во двор, п-п-подышать с-с-свежим воздухом, сэр.
— Ты уже один раз соврал мне. Куда она пошла? Или мне нужно подвесить тебя за большие пальцы, чтобы узнать правду?
Человеку, подвешенному за большие пальцы, явно никакой пользы от кожаной куртки, разорванной или починенной. Заикаясь и потея, караульный выложил все, что ему было известно.
История с якобы заболевшими родственниками была явной ложью. Кейт отправилась доставить по назначению послание королевы. Куда она могла пойти? К кому-то в городе? Для этого требовалась предварительная договоренность, а королева писала под давлением внезапно возникших обстоятельств. Тем не менее необходимо поискать в Винчестере. Где еще? В Лондоне или в каком-нибудь морском порту, расположенном на южном побережье, напротив Франции. Благодаря пробудившейся совести у священника времени потеряно мало. И если старая карга, вопреки мнению некоторых, все-таки не ведьма и не улетела верхом на метле, то она должна находиться по дороге на Гилфорд, двигаясь к Лондону, или на Мидхерст, пробираясь к одному из портов Ла-Манша.
Николас Саксамский, надзиратель Винчестера, имел в своем распоряжении и людей, и лошадей. Большинство охранников знали Кейт в лицо. Обнаружить ее — хромающую на обе ноги, с единственным зубом, торчащим над нижней губой, — не составляло труда. Всякий, увидевший ее хоть раз, непременно вспомнит.
Башмаки, размякшие от тепла и пота, перестали давить. В первый же час Кейт покрыла четыре мили и лишь несколько меньше в течение следующего часа. Затем начались неприятности: башмаки были растоптаны до предела, а ноги продолжали пухнуть. Она отвыкла ходить долго пешком, а с поступлением на службу к королеве редко выбиралась даже в город. Скоро каждый шаг превратился в пытку, и Кейт прошла почти милю босиком. Сперва это было большим облегчением, и она бодро шагала по пыльной дороге, однако ее ноги, вступившие в конфликт с башмаками, запротестовали еще сильнее.
К счастью, Кейт достигла какой-то деревушки — нескольких лачуг, жавшихся к маленькой церквушке. «Здесь должен быть сапожник, — подумала она. — Конечно, придется задержаться, хотя миссис просила не мешкать, однако разумно отдохнуть, а утром найти деревенского сапожника».
У нее все равно не было выбора: идти дальше она просто не могла. Перед ней раскинулось скошенное поле с небольшими стогами свежего сена. Кейт увидела их довольно отчетливо: с последними лучами солнца на небе засияла полная луна и высыпали яркие звезды. Забравшись на стожок, она уснула так крепко, что ее не разбудил топот проехавших мимо трех всадников.
Проснувшись утром, Кейт съела последний, полученный от повара кусок баранины, напилась из канавы и прошла в деревню, где, пользуясь собственным методом лести и угроз, сумела обменять свои башмаки на более удобную пару, которая случайно оказалась у сапожника ввиду смерти заказчика. Они были немного велики, но днем Кейт встретила стадо пасшихся овец. На кустах, где овцы терлись боками, висели пучки шерсти. Напихав в ботинки шерсти, она зашагала с легкостью, которой давно не ощущала. Кейт упорно шла вперед, повсюду справляясь об Алберике и одновременно выпрашивая что-нибудь поесть.

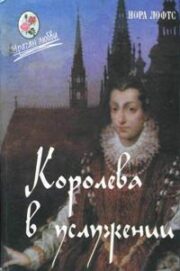
"Королева в услужении" отзывы
Отзывы читателей о книге "Королева в услужении". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Королева в услужении" друзьям в соцсетях.