Вероятно, свободных мест в поезде больше нет.
Я смогу простоять шесть часов? Если да, то все отлично. В тамбурах вполне достаточно места для меня и моих гигантских сумок.
Ну почему это все происходит со мной? Там, в магазине, все казалось так просто. Джамаль объяснил, как добраться до Франции. Он был так добр ко мне и так все прекрасно знал! Я поверила, что добраться из Лондона до Шери проще простого.
Он, конечно, не сказал, что как только ты открываешь рот и заговариваешь с кем-нибудь в этой стране, они тут же по твоему акценту понимают, что ты американка, и отвечают на английском.
И обычно не очень-то вежливо.
Но все же. На вокзале мне удалось сориентироваться по указателям. Я купила в автомате билет, забронированный по телефону, нашла свой поезд, влезла в первый же вагон, до которого доковыляла, и плюхнулась на первое попавшееся место.
Жаль только, я не заметила значок курения и то, что сижу против хода поезда, пока поезд не тронулся.
И как после этого не прийти к выводу, что это была дурная затея? Я имею в виду не поиски другого места, а вообще поездка во Францию. А что если я не дозвонюсь до Шери? Вдруг она снова уронила свой телефон в унитаз, как в тот раз в общежитии? Если у нее нет денег на новый или поблизости нет ни одного магазина с телефонами, и она до конца поездки осталась без телефона? Как я ее разыщу?
Ну, положим, я могу спросить, где находится шато Ми-рак, когда доеду до Суиллака. А вдруг никто о нем даже не слышал? Шери не говорила, далеко ли это от станции. А если очень, очень далеко?
Я даже не могу позвонить родителям Шери и спросить, где она и как с ней связаться. Ведь они захотят знать, зачем это мне, а если я им скажу, что у меня ничего не вышло с Эндрю – то есть с Энди, то они расскажут это моим маме с папой, а те расскажут моим сестрам.
И вот тогда мне до конца жизни придется выслушивать их насмешки.
Господи, ну как меня угораздило так вляпаться? Может, лучше было остаться у Энди? Ну что было бы в худшем случае? Я могла бы ходить одна в дом-музей Джейн Остин, а дом Энди использовать как базу. Мне вовсе не обязательно было уезжать. Я могла бы сказать: «Послушай, Энди, у нас с тобой ничего не выходит, потому что ты оказался не таким, как я думала. Мне нужно писать диплом, так что давай договоримся просто не замечать друг друга до конца моего отпуска, и каждый будет заниматься своими делами».
Можно было просто сказать ему это. Но теперь-то, конечно, уже поздно. Не ехать же обратно. Во всяком случае после той записки, что я оставила ему, когда заехала на такси за вещами. Слава богу, дома никого не оказалось…
…и слава богу, Энди догадался дать мне ключи утром, перед тем как мы ушли. Уезжая, я бросила их в почтовый ящик Маршаллов.
О боже! Место! Свободное место! И как раз в нужную сторону! В некурящем вагоне! И рядом с окном!
Так, спокойно. Может, оно занято, и человек просто отошел в туалет. О господи, я ударила эту старую леди по голове своей сумкой – «Je suis désolée, madame»,[5] – говорю я. Это значит «Простите», верно? Да какая разница. Место! Место!
О боже. И оно рядом с молодым человеком примерно моих лет. У него вьющиеся темные волосы, большие карие глаза и серая рубашка, заправленная в джинсы, протертые именно там, где надо. И джинсы у него на плетеном кожаном ремне.
Наверное, я умерла. Я шла и шла по проходу в вагонах и умерла – от голода, обезвоживания и сердечного приступа. И оказалась в раю.
– Pardonnez-moi, – говорю я этому совершенно отпадному парню. – Mais est-ce que… est-ce que…
Черт, я всего лишь пытаюсь спросить, не занято ли место рядом с ним. Только на французском, само собой. Правда, я не помню, как будет «место». Или «занято». Я что-то не припомню, чтобы мы проходили такие выражения на уроках французского. Хотя, может, и проходили, да я грезила об Эндрю – то есть Энди – и слушала невнимательно.
Или, может, этот парень так красив, что я просто не могу думать ни о чем другом?
– Вы хотите здесь сесть? – спрашивает меня этот самый парень, указывая на место рядом с собой.
На чистейшем английском. На чистейшем АМЕРИКАНСКОМ английском.
– О боже! – взрываюсь я. – Вы американец? Это место действительно свободно? Я могу здесь присесть?
– Да, – отвечает парень с улыбкой на все три вопроса, демонстрируя идеально белые зубы. И он поднимается, пропуская меня к окну.
Он наклоняется, берет мою непомерных размеров сумку, разбившую не одну сотню французских коленок на своем пути через вагоны, и говорит:
– Позвольте вам помочь.
И без всяких видимых усилий вскидывает эту тяжеленную сумку на верхнюю полку. Ну вот, теперь я точно плачу.
Потому что это не галлюцинация. И я не умерла. Все происходит на самом деле. Это правда, потому что я сняла рюкзак с плеча и засунула его под полку, и у меня онемела вся рука. Если б я умерла, разве б почувствовала, что рука онемела?
Нет.
Я плюхаюсь на сиденье – мягкое, уютное – и замираю, не веря в свое счастье. В окне с невероятной скоростью проносятся дома. Как же так? Моя фортуна, в последнее время столь неблагосклонная, вдруг так резко развернулась ко мне лицом. Что-то здесь не так. Наверняка, это ловушка.
– Воды? – спрашивает меня сосед и протягивает пластиковую бутылку.
– Вы… вы отдаете мне свою воду? – Я его практически не вижу из-за слез.
– Э-э, вообще-то нет. Она прилагается к месту. Это же первый класс – здесь каждому положена бутылка воды.
– О! – Я чувствую себя последней дурой (что совсем не новость). На том месте я не заметила воды. Наверное, тот французский подросток слямзил мою бутылку. Я беру воду у своего нового – и гораздо лучшего – соседа.
– Спасибо, – бормочу я. – Я просто… у меня был трудный день.
– Да я уж вижу, – отвечает он. – Если только, конечно, вы не плачете в поезде всегда.
– Нет, – говорю я, мотая головой и хлюпая носом. – Честно.
– Что ж, это хорошо, – замечает он. – Я слышал о боязни самолетов, но вот о боязни поездов что-то не приходилось.
– Это был худший день в моей жизни, – говорю я, открывая бутылку. – Вы представить себе не можете. Так приятно услышать американскую речь. Я и не знала, что нас здесь все ненавидят.
– Да нет, все не так плохо, – говорит парень, еще раз сверкнув ослепительной улыбкой. – Просто если б вы видели, как ведут себя здесь американские туристы, вы, наверное, тоже возненавидели бы нас, как французы.
Я залпом выпиваю почти всю воду. Мне уже гораздо лучше. Не то чтобы смерть совсем разжала свои ледяные объятия, но, уверена, вид у меня уже вполне живой. И это хорошо, потому что, разглядев своего нового соседа поближе, я понимаю, что он не просто красив. В его лице светятся доброта, ум и чувство юмора.
Если только это не мои голодные галлюцинации.
– Что ж. – Я вытираю глаза рукой. Интересно, тушь у меня не растеклась? Она у меня водостойкая? Не помню. – Придется поверить вам на слово.
– Первый раз во Франции? – сочувственно спрашивает он. Даже голос у него приятный – такой глубокий и очень понимающий.
– Первый раз вообще в Европе, – отвечаю я. – Не считая Лондона, где я была еще утром.
И тут словно прорывает дамбу, и я снова начинаю плакать.
Я стараюсь делать это бесшумно – не всхлипывая и не подвывая. Не могу думать о Лондоне без слез – я ведь даже не сходила ни в один магазин!
Мой сосед пихает меня локтем. Сквозь слезы я вижу, что он протягивает мне какой-то пакетик.
– Хотите орешки с медом?
Да я умираю от голода! Без лишних слов я запускаю в пакетик руку, беру полную пригоршню орешков и запихиваю в рот. Мне плевать, что они с медом и буквально напичканы углеводами. Я хочу есть!
– Это… это тоже прилагается к месту? – спрашиваю я, хлюпая носом.
– Нет, это мое, – отвечает он. – Угощайтесь. Что я и делаю. Ничего вкуснее я в жизни не ела.
– Спасибо, – говорю я. – И… простите.
– За что?
– За то, что я сижу тут и плачу. Я не всегда такая, клянусь.
– Путешествия порой вызывают большой стресс, – замечает он. – Особенно в наше время.
– Это точно, – соглашаюсь я, набирая еще орешков. – Вот встречаешь людей, и они кажутся тебе очень милыми. А потом оказывается, что они всю дорогу врали тебе, чтобы заставить заплатить за их обучение, потому что сами они проиграли все деньги в карты.
– Я вообще-то имел в виду угрозу терактов, – немного удивленно говорит мой сосед. – Но, полагаю, то, что вы описали, тоже может причинить немало беспокойства.
– Да уж точно, – бормочу я, всхлипывая. – Вы даже представить себе не можете. Он же просто беззастенчиво врал мне – говорил, что любит и все такое, – а на самом деле, я думаю, он просто использовал меня. Понимаете, Энди – тот парень, которого я оставила в Лондоне, казался таким славным. Собирался стать учителем. Говорил, что хочет посвятить свою жизнь детям, хочет учить их читать. Вы когда-нибудь слышали о таком благородстве?
– Э-э, нет, – говорит мой сосед.
– Конечно, нет. Кто в наши дни готов заниматься этим? Наши сверстники? Сколько вам лет?
– Мне двадцать пять, – с легкой улыбкой отвечает мой сосед.
– Вот, – говорю я, открывая сумочку и пытаясь выудить оттуда платок. – Вы не замечали, что наши сверстники…
только и думают о том, как заработать деньги? Ну ладно, пусть не все. Но многие. Никто не хочет идти в учителя или врачи – там мало платят. Все хотят быть банкирами-инвесторами, или менеджерами по персоналу, или юристами… потому что именно там платят хорошие деньги. Их не волнует, сделают ли они что-нибудь хорошее для человечества. Они думают только о том, как купить особняк и «БМВ». Нет, правда.
– Или как выплатить кредит за учебу, – подсказывает мой сосед.
– Да. Но ведь чтобы получить хорошее образование, необязательно идти в самый дорогой в мире университет. – Мне наконец удается нащупать скомканный платок на самом дне сумочки, и я пытаюсь вытереть им слезы. – Ведь главное – самообразование.

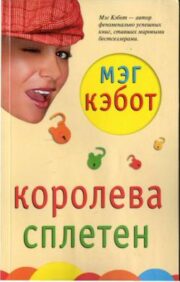
"Королева сплетен" отзывы
Отзывы читателей о книге "Королева сплетен". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Королева сплетен" друзьям в соцсетях.