— Хватит, хватит! Я чувствую, что размягчаюсь, а я, как все, глупею, когда плачу… Уходи, Катрин, уходи!..
И он вывел Катрин из хижины, но на пороге встретил Консьянса.
— Вот как, — сказал Бастьен, — теперь ты меня ждешь.
— Я понимаю, что ты сделал для меня, Бастьен, просто я хотел с тобой поговорить.
— Со мной?
— С тобой.
— Со мною одним?
— С тобой одним.
— Тотчас?
— Нет, завтра, когда Мариетта будет в городе, а доктор Лекосс — у постели дедушки.
— Согласен! Я отведу лошадей соседа Матьё на водопой и буду ждать тебя за домом, у трех дубов.
— Спасибо, Бастьен.
— Ах, — сказала Катрин, уходя, — а он скрытен, этот господин Консьянс.
— Возможно, так, — возразил гусар, — но в двух передрягах он доказал мне, что он не из тех, кто распускает слухи, причиняющие людям немало беспокойства.
Для бедного семейства день прошел в обычных делах, но теперь к ним добавились слезы и новые хлопоты, вызванные болезнью папаши Каде. Однако, дав Консьянсу способность понимать язык животных, Господь, похоже, точно таким же образом наделил его даром разгадывать смысл нечленораздельной прерывистой речи старика. Стоило папаше Каде пожелать чего-либо, как его желание исполнялось. Как только его словно остекленевшие глаза поворачивались к какому-то предмету, Консьянс брал этот предмет и извлекал из него именно ту пользу для больного, какую, по всей видимости, желал для себя сам больной.
На следующее утро Консьянс, вместо того чтобы повезти вместе с Мариеттой молоко в Виллер-Котре, попросил девушку пойти туда без него, причем тотчас, начав визиты с доктора Лекосса, если он еще не уехал в Арамон.
Мариетта никогда не спрашивала Консьянса, что означали его поступки; она знала: благодаря своего рода внутреннему озарению, свет которого, как она видела, переполнял глаза Консьянса, всякое действие юноши таило в себе свой смысл. Мариетта отправилась в город с Бернаром, которому потребовался трижды повторенный приказ Консьянса, чтобы решиться на разлуку с хозяином и пуститься в дорогу с Мариеттой.
Бастьен, по обыкновению, водил лошадей соседа Матьё на водопой точно в девять утра. Но в этот день, спеша оказать Консьянсу услугу, о которой тот, без сомнений, попросит у него, гусар подъезжал к трем дубам без десяти минут девять.
Консьянс лежал под одним из них. Заметив Бастьена, он поднялся.
Со своей стороны гусар, увидев юношу, погнал быстрее трех своих лошадей, а подъехав к трем дубам, спрыгнул на землю и хотел было привязать животных к дереву.
— Нет, — сказал Консьянс, — этого не надо делать. Мне хватит и двух минут, чтобы поговорить с тобой, Бастьен.
— Четыре минуты, бедный мой Консьянс… Ей-Богу, мы так давно не говорили друг с другом и скоро лишимся этого удовольствия.
— Я хотел тебя попросить, дорогой мой Бастьен, — сказал юноша, — передать мне во всех подробностях то, что произошло между тобой и супрефектом.
— А, хорошо, — согласился гусар, — если ради этого ты встретился со мною, такое дело, ей-Богу, не стόит усилий.
И он снова взял поводья в руки.
— Очень даже стόит, — возразил Консьянс, — ведь мне нужно знать все, что он сказал тебе, Бастьен.
Консьянс говорил столь серьезно, что гусар почувствовал себя во власти этого голоса, мягкого и вместе с тем твердого, умоляющего и вместе с тем повелительного.
— Так тебе и вправду, — спросил он, — необходимо это знать?
— Да, мне это нужно, Бастьен.
— Хорошо! Так вот… понимаешь, я очень прошу у тебя прощения, но мне казалось, что у тебя нет большого призвания к ремеслу солдата…
— Это правда, — подтвердил Консьянс.
— Хотя я так и говорю, но, судя по тому, что я видел собственными глазами, во всей армии и даже среди ветеранов, даже среди ворчунов нет ни одного человека отважнее тебя.
— Это не отвага, Бастьен, — тихо объяснил Консьянс, — это доверие к Богу.
— Пусть так, что есть, то есть… Так я говорю: заметив, как мало у тебя призвания к солдатской жизни, да еще услышав слова бедной Жюльенны, положившей своего ребенка к твоим ногам, и увидев слезы у всех на глазах, я пришел к мысли поехать в армию вместо тебя.
— Добрый Бастьен!
— Да, не выходила у меня из головы эта мысль… Я-то люблю военное дело… Я хорош только на службе. И к тому же, видишь ли, там не приходится думать о куске хлеба… Там бывают славные деньки, да и ночи не хуже… Но тебе все это неведомо — у тебя нет никакого призвания к солдатскому ремеслу. Я запросто сказал супрефекту: «Конечно, господин супрефект, вы понимаете, в этом мире надо помогать друг другу. Консьянсу не повезло… он не очень-то рвется в армию, а я готов его заменить».
— Дай мне твою руку, Бастьен.
— Ах, да, проклятая рука! Она-то и испортила все дело… Все было сказано, все договорено; он написал письмо к доктору, дает письмо мне, я протягиваю за ним руку… «Ну-ка, — говорит он, — что это у вас с рукой?» Ты понимаешь: отрицать невозможно. «Что у меня с рукой?.. Ерунда! Сущая безделица: два пальца оторвало австрийской пулей под Ваграмом! Но это ничего не значит! Так что давайте мне письмо!» — «Нет, нет, нет! Спасибо! — говорит он, качая головой, — если даже одного пальца недостает, это уже выбраковка, а уж тем более — двух. Его величество император и король не нуждается в увечных солдатах!»
— А почему один оторванный палец означает выбраковку?
— Один оторванный палец — это уже выбраковка, — пояснил Бастьен с важным видом, — потому что, понимаешь, Консьянс, если ты служишь в пехоте и у тебя оторван указательный палец, ты вполне в состоянии зарядить ружье, но не сможешь из него выстрелить, так как у тебя нет того пальца, которым ты нажимаешь на спусковой крючок. С другой стороны, если ты поступаешь в кавалерию, например в гусары… потому что, понимаешь, если бы ты поступил в кавалерию и тебе позволили бы выбрать ее вид, думаю, ты пошел бы только в гусары… И что же! Отсутствие именно этого пальца не позволит тебе уверенно действовать саблей… Вот почему оторванный палец означает выбраковку.
— Спасибо, Бастьен! — поблагодарил его Консьянс. — Это как раз то, что мне хотелось узнать.
— И это все?
— Да, все.
— Что ж, теперь ты это знаешь… Если тебе нужно узнать еще о чем-то, я расскажу тебе с такой же охотой.
— Теперь обними меня, Бастьен!
— О, от всей души! Но ты еще не уезжаешь?
— Нет.
— И мы увидимся до твоего отъезда?
— Наверняка.
Бастьен отвязал своих лошадей и сел на одну из них.
— Но, — спросил он, приставив ладонь козырьком к глазам, — что это за всадник едет к нам по дороге из Виллер-Котре? Похоже, доктор Лекосс.
— Это и правда он, — подтвердил Консьянс. — Он обещал нанести сегодня визит папаше Каде, и вот он едет… Поезжай поить своих коней, Бастьен, поезжай!
Консьянс произнес эти слова столь серьезно, что Бастьен посмотрел на него с удивлением.
— О чем ты думаешь, Консьянс? — спросил его несколько встревоженный Бастьен.
— Я думаю, — ответил Консьянс, — что, может быть, найдется средство, чтобы матушка Мадлен не умерла от горя, а папаша Каде — от голода.
Бастьен попытался разгадать значение этих слов, но, убедившись, что он не в состоянии проникнуть в замысел Консьянса, сказал:
— Воистину с тобой никогда не надо ни в чем отчаиваться… А ну, эскадрон, живо на водопой! Ах, в полку вот была потеха!
И он ускакал крупной рысью на водопой, находившийся у деревенской площади, в то время как Консьянс не спеша возвратился к папаше Каде через заднюю дверь.
XV
ОТСЕЧЕННЫЙ ПАЛЕЦ
И правда, доктор Лекосс на своей кобыле приехал с визитом к папаше Каде, которого он уже сутки не видел.
Вся несчастная семья с нетерпением его ждала. Ночь прошла спокойно; к семи вечера жар усилился и только теперь словно неохотно отпустил старика, лежавшего в глубине алькова, куда с трудом проникал свет.
Доктор велел зажечь лампу, чтобы как можно тщательнее осмотреть пациента. Лицо папаши Каде было бледно, глаза глубоко запали; пульс, правда, стал немного живее, но язык, дрожавший и произносивший только нечленораздельные звуки, с трудом раздвигал губы; больной мог слабо шевелить только левой рукой, а левая нога не двигалась вовсе.
Однако, несмотря на все это, общее состояние старика заметно улучшилось; поскольку накануне из него выпустили около шести унций крови, доктор не хотел делать повторное, весьма рискованное кровопускание, всегда опасное в подобном случае, особенно у крестьян, людей, чья кровь обеднена из-за скудной пищи. Так что врач посоветовал только сделать для ног припарки с мукой и горчицей, а для головы, которую следовало держать приподнятой, — компрессы, смоченные водой из источника, причем компрессы полагалось время от времени менять, чтобы они постоянно оставались свежими.
Папашу Каде спасли от смерти, но, вероятно, он не сможет пользоваться рукой, а передвигаться если и будет, то лишь с большим трудом.
Однако и это было уже немаловажно для несчастной семьи, чьей душой являлся Консьянс, а головой — папаша Каде, головой, хоть и отяжелевшей, но еще сохранившей разум.
Доктор вышел из хижины, провожаемый благословениями женщин; малыш Пьер держал его лошадь за уздечку; врач сел в седло и отправился обратно в Виллер-Котре.
Проехав сотню шагов, он заметил Консьянса.
Юноша стоял донельзя бледный и держал перед собой правую руку, завернутую в мокрое полотенце, все в пятнах крови.
— О Господи! — вскричал доктор Лекосс, придержав лошадь. — Что с тобой, мой бедный Консьянс?
— Господин доктор, — произнес юноша своим всегда спокойным мягким голосом, — со мной стряслась большая беда…

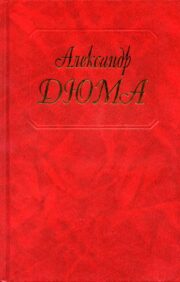
"Консьянс блаженный" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консьянс блаженный". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консьянс блаженный" друзьям в соцсетях.