Теперь он был пьян почти постоянно, но от вина чаще впадал в сон, чем в ярость. В шестнадцать Лия, пользуясь тем, что отец много спал, стала ходить в город. Иногда со слугой, которому, как она думала, может доверять, но чаще одна. Так Лия оказалась в старом еврейском квартале, узкие булыжные улочки которого мало чем отличались от остальных улочек Толедо, лишь остатки древней городской стены отделяли квартал от старого христианского города. Лия знала, что официально соседства с евреями не было, потому что официально и евреев уже не было. Но по рассказам матери она знала, что большинство семей анусимов, тайных иудеев, продолжало жить в тех местах, где они жили веками, еще даже до Изгнания[11].
Лия искала улицы, которые упоминала ее мать, проводила часы, шагая по извилистым, запутанным улочкам и тупикам, где жилые дома превращали день в ночь. На нее смотрели косо, потому что она разгуливала одна, но никто ее не обижал. Она ходила, прислушиваясь к оживленным разговорам на странном языке — испанском, смешанном с каким-то еще, напоминавшем ей молитвы, которые невнятно бормотала мать. Она принюхивалась к жарящимся migas, маленьким кусочкам хлеба с чесноком. Она проходила мимо женщин с шарфами на головах, торгующими alheras, сосисками из куропатки и курицы.
— Никакой свиньи! — заверила одна из них Лию, энергично кивая. — Никаких нечистот!
Лия купила хлеб с чесноком и сосиски и услышала имена, о которых слышала от матери: Гоцан, Маймо и семейное имя самой матери Селомо.
Однажды она шла по узкой улице де ла Чапинерия, и неожиданно темная улица внезапно свернула в широкий двор, где солнечный свет падал на низкие здания из розового песчаника и раскалял стены докрасна. Она ускользнула от слуги, которого отец отправил с ней на мессу, и теперь стояла одна у входа во двор, окидывая взглядом неровный круг грязных фасадов. В центре двора двое детей бросали тряпичный мяч в лающую собаку, а рядом с верстаком сапожника, стоящего перед жильем с мавританской башенкой, сидела высокая, худая, одетая в шерстяную одежду женщина средних лет. Повернув голову назад, она разговаривала с кем-то внутри дома. Волосы у женщины были убраны под покрывало. Среди испанских фраз, смешанных с тем, что, как Лия теперь знала, было еврейским, она расслышала: «Селомо».
Не раздумывая, Лия подошла к женщине, извинилась и спросила, не знает ли она семью Селомо. Женщина вскочила на ноги и позвала своих детей:
— Аарон! Иегуда! — А потом спросила: — Кто вы и почему спрашиваете? — Она вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Лию.
Лия посмотрела ей прямо в глаза.
— Я — Лия, — сказала она. — А ваше лицо как зеркальное отражение лица моей матери.
— Барух Хашем, — удивленно проговорила женщина, как и положено иудеям, называя своего Бога вымышленным именем, одной рукой она обхватила двух своих мальчиков, которые льнули к ней и с любопытством смотрели на Лию большими карими глазами. — Барух Хашем, — снова сказала женщина. — Хвала Пресвятой Деве. Ты сама как зеркало. Я думаю, ты моя племянница.
Тетя Аструга отправила мальчиков снова играть и повела Лию в дом, мимо сапожной мастерской мужа, в жилую часть, выходящую во внутренний двор. У стены возле окна стояла маленькая гипсовая статуя Девы Марии. За ней Лия увидела в крытом, вымощенном сланцевой плиткой дворе колодец и цветущее лимонное дерево.
Лия поняла, что плачет в присутствии своей тетки, которая не только выглядела, но и говорила как ее мать. Тетка тоже заплакала над историей смерти своей сестры Серафины, хотя она уже слышала об этом от одного христианина, покупавшего сапоги у ее мужа. Муж был ее дальним родственником, товарищем детских игр, также носившим фамилию Селомо.
— Он тоже горевал по моей сестре, — сказала Аструга, вытирая глаза кончиком фартука. Она называла Серафину «Сара». Это имя Серафина сохранила в секрете от Лии, хотя рассказала своей дочери много другого.
Лия осталась на обед из ягненка, жареных яиц и грецких орехов и познакомилась со своими младшими братьями, но не с дядей, которого не было в городе: он уехал закупать кожу для обуви.
— Восемнадцать лет… — повторяла и повторяла Аструга. — Восемнадцать лет, и она не навестила нас ни разу.
— Она говорила мне, что скучает по вас, — сказала Лия. — Она думала, что умерла для своей семьи.
Аструга покачала головой.
— Я знаю свою сестру лучше, чем ты думаешь. Мой отец и моя мать не захотели бы видеть ее. Они даже не упоминали ее имени после свадьбы. Они умерли, не сказав ни одного доброго слова о Саре. Но она могла прийти ко мне, если бы захотела. Жена сапожника не может прийти в дом семейства де ла Керды, но она могла прийти к нам. Сара Бен Селомо для меня не умирала. Нет, умерла Серафина де ла Керда. Она продала нас всех за особняк и христианское имя.
Возразить на это было нечего. Лия промолчала.
Потом Лия часто приходила к тете. Они сидели вдвоем во дворе, чистя орехи и смешивая специи для ужина, или сортировали белье, постиранное прачкой, и Лия задавала своей тете так же много вопросов, как и своей матери. Ответы Аструги были более полными, чем ответы Серафины, но все-таки они были частями, фрагментами и обрывками вещей, которые, как она сказала, полностью знают только мужчины.
— Только мужчины, — сказала она, — да неродившиеся дочери кого-то вроде Гоцана Бен Элизара, прядильщика шерсти. Он вдовец, но клянется, что если женится снова и его новая жена родит девочек, то он заставит их всех учить древнееврейский и даже штудировать Талмуд! — Аструга засмеялась при этих словах, отгоняя цыплят, клевавших слишком близко от очищенного фундука, который она бросала в чашку, стоявшую рядом с ней.
Аструга предупредила Лию, чтобы она была осторожней и посещала их реже. Ее удивляло, что с каждым разом Лия одевалась все скромнее. Ее племянница, это было заметно, насколько могла, подражала манере одеваться самой Аструги, как и других женщин, которых она видела в старом еврейском квартале. Цвет ее одежды становился все более приглушенным, и она прятала волосы под шарфом, как замужние женщины в квартале.
— Ты — дочь своей матери, — попрекала ее Аструга. — Та после замужества носила заморские жабо, красновато-лиловый атлас и драгоценности в волосах, чтобы оскорбить нашего отца, если он видел ее издалека, и не могла ничего с этим поделать. Ты идешь в другом направлении, но разве ты послушна? Какая хорошая дочь бродит одна по улицам? Ты как мать, с головы до пят.
— Жабо царапают шею, — отговорилась Лия.
Часто Лия оставалась у тети на ужин, сказав отцу, будто идет на вечернюю молитву. Обычной еде за столом Селомо предшествовало еврейское благословение, которое читал ее смуглый дядя Ройбен. Ройбен был плотный и мускулистый, на дюйм ниже ее высокой, красивой тети. А однажды вечером, когда гостивший у них христианин, торговец из Мадрида, преломлял с ними хлеб, Ройбена называли Карлосом и молитву произносили на латыни.
— За это мы прочтем Кол Нидре в Йом Киппур, — сказал Ройбен, когда мужчина ушел.
Вся семья только пожала плечами.
Но Шаббат — это совсем другое дело.
— Здесь.
Лия резко остановилась позади тети, дяди и маленьких кузенов у входа в узкое двухэтажное здание на улице Ангела. Солнце еще только садилось, но стены домов уже отбрасывали ночные тени на узкую улочку. В половине домов из труб поднимался дым, но в других домах, включая и этот, только свет свечей слабо мерцал в окнах.
— Мы войдем здесь, — сказал дядя Ройбен. Они вышли через дверь, на одном из дверных косяков которой была вырезана фигура Мадонны. К удивлению Лии, каждый член семьи, входя в дверь, целовал ступню Мадонны. Она не понимала, почему они это делали, и поэтому целовать ступню не стала.
Они поднялись по узкой лестнице наверх. Нервничая, Лия держалась позади, придерживая вуаль.
Смех и голоса слышались из-за двери. Ройбен постучал в нее, и голоса немного стихли. Дверь приоткрылась, и появилась бородатая голова мужчины в кипе.
— Кто эта пятая? — спросил мужчина Ройбена.
— Моя племянница, — честно признался Ройбен, в ответ мужчина неодобрительно нахмурился.
— Никаких чужаков, — сказал он, начиная закрывать дверь. — Уведи ее!
Ройбен поставил на порог ногу.
— Она нашей крови. Она…
— Я знаю, кто ваша племянница. Дочь необрезанного дона Себастьяна де ла Керды, который поклоняется Назаретянину.
— Ее мать была иудейкой! — вмешалась Аструга, а Ройбен попытался успокоить ее:
— Была, не значит есть.
— А она есть. Вы должны доверять нам.
— Доверять! — Мужчина хрипло рассмеялся. В помещении за ним все стихло. Лия услышала, как задвигались стулья: народ отодвигался к стенам; окна открывались. — Вера — это для христиан. Мы не дураки. На кону наши жизни и наши семьи. Известно, что Святое Братство посылает детей шпионить за нами. Почему бы им не послать и женщин? Нам нужно более крепкое поручительство, чем просто доверие.
— Вот, смотрите! — Схватив Лию за руку, Аструга вышла вперед и закатала рукав шерстяного платья девушки. — Вот рана, которую нанес ей отец за то, что она приходила к нам на прошлой неделе. Хотите потрогать? Она пришла, чтобы узнать обязанности женщины по Закону, а отцу сказала, будто идет к мессе.
На самом деле рана у нее появилась, когда Лия играла со своими двоюродными братьями, Аароном и Иегудой, в мяч и упала на твердую землю во дворе перед домом семейства Селомо. Но сейчас, подыгрывая тете, она держала перед собой раненую руку, приняв страдающий вид. Упрямый мужчина смягчился, увидев ее глаза. Низкий голос у него за спиной произнес:
Дэниел, нам сказали ждать посетителя. Солнце садится. Впусти семейство Селомо!

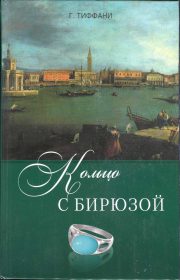
"Кольцо с бирюзой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кольцо с бирюзой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кольцо с бирюзой" друзьям в соцсетях.