Логвин Янина
Коломбина для Рыжего
© Логвин Янина, текст
© ООО «Издательство АСТ»
– Эльвира Ивановна, значит? Тетя Эля? А может, просто – Ивановна? Хм, а почему нет? Терпеть не могу все эти «здрасьте-подвиньтесь». Вот прямо скулы сводит от тупых формальностей, честное слово! Чего нам расшаркиваться, Ивановна, мы же, считай, свои люди! Вот только прическа у тебя отстойная, как у примороженного к льдине пингвина, да и сама… ну чисто тебе театральная гардеробщица. Почему это? Да потому, что бледная и вышколенная, как закулисная моль. А ты чего, тетя, по струнке вытянулась? Чего в караул-то встала, как славный народ Вьетнама перед Хо Ши Мином? Я же к тебе без наезда, без предъявы. Без ксивы! Расслабься, дорогуша, я не кусаюсь.
Я захожу в нашу с отцом квартиру и сбрасываю туфли с уставших ног. Бросаю ключи на полку у двери, стягиваю с волос резинку, разминая пальцами затылок. У стены прихожей испуганно замерла девица лет тридцати пяти, типичный серый чулок. Она важно топорщит грудь и поджимает тонкие губы перезревшей гимназистки, наблюдая за мной. Переминается с носков на пятки, поглядывая на отца, сбитая с толку моим внешним видом и грубым приветствием, но я знаю, что мне осталось всего ничего, чтобы навсегда выдворить ее с родной территории, и я подхожу к девице и тихо произношу, со всей серьезностью глядя в распахнутые глаза:
– Г-гав! – и тут же развожу руками, отступая, когда она как угорелая несется мимо меня к двери, срывая с вешалки потертую сумочку, кутаясь на ходу в дешевенький плащик.
– Андрюша! Ну, знаешь ли! Ты, конечно, предупреждал, говорил, что твоя дочь бывает несдержанна и своенравна, что воспитывалась без матери, но это… Это даже для меня слишком!
– Ой-ой-ой, какие мы нежные и ранимые!
– Элечка! – кричит отец, нагоняя ее, пока я любуюсь его спортивными штанами, надетыми наизнанку, и голым поджарым торсом. – Элечка, подожди! Вернись! Элечка…
– Да пусть катится, пап! Подумаешь…
Я ужасно устала, долгий разговор с Серебрянским, глупые претензии его семьи, наша ссора и трехчасовая дорога на электричке в пригород порядком измотали меня, и все что мне сейчас хочется, это принять ванну, надеть халат, сунуть голову под подушку и свернуться клубком на своем старом потертом диване, забывшись сном.
Отец останавливается у порога и беспомощно всплескивает руками, когда входная дверь подъезда этажом ниже с грохотом закрывается, навсегда отрезая собой Элечку из моей жизни. Надеюсь, и из его тоже.
– Таня! Дочка! Ну что ты творишь? Какая вожжа тебе под хвост попала, что ты завелась с порога, вот так запросто обидев человека? Ведь ты ее совсем не знаешь!
Я открываю обувной шкаф и роюсь рукой в ворохе отцовских туфлей и кроссовок, отыскивая среди них свои домашние тапки – старые, истертые, со смешными заячьими ушами.
– Ох, тоже мне упущение. Не начинай, пап.
– Таня, ты не права! Это было грубо!
– Угу, как всегда, – легко соглашаюсь. Хлопнув дверцей, на миг закрываю глаза, встречая вместе с любимой обувью знакомое ощущение дома и покоя. – Кстати, – смотрю на расстроенного отца, – я тоже до визга рада тебя видеть.
– Дочка…
– Пап, – я вдруг почти сержусь, – давай обойдемся без нравоучений. И без тебя тошно.
– Ты не понимаешь. У нас все серьезно!
– Да? – я даже не удивляюсь. Просто вздыхаю громко, настолько мне все это знакомо и осточертело. Без меня пусть делает, что хочет, не маленький. Но когда я дома, соблюдать видимость семьи – наше с ним давнее условие общего благополучия. – В который раз, Крюков? Не устал играть роль благодетеля Прометея, обогревая ночами одиноких Снегурочек? Брось, а?
– Татьяна! – ого, да мы научились рычать? – Это не твое дело!
– Спокойно, – я поднимаю руки и ретируюсь. Волочу дорожную сумку по полу к своей комнате. – Конечно, не мое, кто спорит? Мое дело учиться, учиться и еще раз учиться. Слыхали, помним, соответствуем.
В доме чисто и приятно пахнет чем-то до боли вкусным и пряным – домашней выпечкой, и я нехотя ставлю плюсик отцу: так уютно обустроить свою жизнь в отсутствии жены, еще суметь надо. Хотя сорок лет, здоровый мужик, чему я удивляюсь?
Крюков топает за мной, угрюмо дыша в затылок.
– Что, мать не звонила? – интересуюсь, заранее зная ответ. Скорее по привычке, чем по искреннему любопытству. Вдохновленный трепет ожидания в этом вопросе давно покинул меня.
– Нет.
Я молчу, и отец повторяет, должно быть, в тысячный раз, тоже по привычке. Так уверенно, словно я до сих пор все та же доверчивая десятилетняя девчонка.
– У нее работа, Тань, ответственная и важная для страны. Ты же знаешь…
И я киваю. Вот только слезы, как бывало в детстве, уже не наворачиваются на глаза. И губы не дрожат от зависти и обиды, что это не мы с отцом рядом с мамой в журнале и на экране телевизора, а совсем незнакомые дяди и тети.
Нет, по большей части дяди, кому я вру.
– А как же, пап, знаю: и в пятьдесят по-прежнему трахать тридцатилетних мужиков. Круто быть начальницей с регалиями и почетом. Шилом в заднице и компасом во лбу! Геологоразведка, романтика! Жуй до пенсии – не хочу! Развелись бы уже, и дело с концом. Ведь давно не связывает ничего.
– Как это ничего? – отец растерянно пожимает плечами, осторожно заглядывая мне в глаза. – И придет же в голову! Ты нас связываешь, Тань. Наша дочь.
– Ой, да брось, пап, – я бросаю сумку у стены и приваливаюсь плечом к стене, оглядываю тоскливым взглядом свою комнату. Такую же несуразную и бестолково-яркую, как я сама. Цветную обертку так и не превратившейся в бабочку куколки, не больше. – Мучение тебе одно с такой женой. Всю жизнь мучаешься. Зачем?
– Много ты понимаешь! – теперь очередь отца сердиться, и я не могу его за то винить. – Переодевайся уже, горе ты мое невоспитанное, и шуруй на кухню! Там Эля пирог испекла рыбный, с луком и яйцом. Будем есть!
Когда я прихожу на кухню, отец уже надел футболку и вернул штанам надлежащий вид. Он суетится у стола, привычно разливая чай, нарезая сыр, колбасу… Красиво поигрывая при этих обычных движениях бицепсами на мускулистых руках. Я смотрю на него от порога, и в который раз удивляюсь выбору матери: интересный мужчина, чего ей не хватало? Но лишь недавно совершенно точно поняла для себя: свободы. И все равно смириться с таким ответом не могу.
Увидев на столе свою чашку, снятую с кухонной полки специально для меня, я подхожу к отцу и приникаю к его спине, обнимая под грудью.
– Пап, ну извини. Погорячилась я, признаю. Молодец, Элечка.
Широкая ладонь тут же касается моих пальцев.
– Предупреждать надо, Тань. Что, позвонить не могла? Я же не в тайге живу и не на морском шельфе, в отличие от некоторых. Могла и обронить два слова: приезжаю, мол, встречай.
Он уже не сердиться на меня, и мне, как всегда, становится легко рядом с ним.
– Не-а, не могла.
– Что, прожорливый червяк в кошельке все деньги сожрал?
– Не угадал. Просто так паскудно на душе было, пап, хоть волком вой. Какое уж тут звонить, просто очень хотелось домой. К тебе.
– Танечка, – отец оборачивается ко мне и прижимает к себе. Сглатывает напряженно. – Что случилось? Тебя кто-то обидел? Ты только скажи, дочка, и папа всех вот этим самым ножичком искрошит в пыль, ты же знаешь!
– Знаю, пап.
– Так что произошло?
– Все хорошо. Точнее, не очень. В общем, взрослею, вот и все. Ничего глобального, кроме истраченных нервов.
– А-а, – он отстраняется, мягко усаживая меня на стул. Отрезает от пирога щедрый ломоть и укладывает его на тарелку, подсовывая мне под нос. – Тогда ешь давай, – привычно командует, опускаясь рядом, – набирайся сил. Это куда легче и безболезненнее, чем набраться ума.
Когда-то он кормил меня с рук, двадцатилетний парень, по сути еще мальчишка, пока его тридцатилетняя жена, бывший педагог, а нынче подруга по жизни, находила десятки причин, чтобы уйти из дома, и моя избирательная память сохранила это воспоминание из детства очень ярким фрагментом.
И я соглашаюсь, легко принимая его заботу.
– Это точно, пап.
Когда уже все новости рассказаны, пирог съеден, а за окном становится совсем темно, я подхожу к двери отцовской спальни и прошу, зная, что он не спит.
– Пап, ты позвони Элечке. Извинись за меня и все такое. Хорошо?
– Хорошо. Спокойной ночи, дочка. Я рад, что ты дома.
– И я люблю тебя, пап.
День рождения Алины Черняевой отмечали всей группой: первый курс, конец зимней сессии, впереди каникулы. Казалось бы, нет в мире вещи, способной омрачить лучшие дни студенческой жизни обычной провинциальной девчонки. Казалось… пока в этой новой, счастливой жизни не случился он. Слишком наглый, слишком развязный и слишком самоуверенный в себе тип, под глупой автомобильной кличкой Бампер. Двоюродный брат виновницы торжества.
Он появился в дверях загородной дачи семьи Черняевых, куда Алина пригласила нас в канун рождественских праздников отметить свой день рождения, с двумя друзьями и сразу же с порога заявил, что порядком изголодался. По хорошей жратве, по крепкой выпивке, по отвязному драйву и по горячему женскому вниманию. Особенно по женскому вниманию. Нас было семнадцать девчонок и пятеро парней, эти трое внесли заметное разнообразие в нашу шумную компанию, мы пили, танцевали и веселились, от души поздравляя именинницу, пока черт, а точнее Олька Попова, растолкав всех и рассадив по кругу, схватив со стола пустую бутылку из-под вина, не предложила сыграть в известную всем «бутылочку».
Мне было весело. В мои семнадцать лет я никогда не целовалась и не пользовалась успехом у мальчишек, лишь заручением в дружбе. Я и подумать не могла, что шанс получить свой первый поцелуй выпадет мне в этот глупый январский вечер с наглым, рыжим зубоскалом.
Он сидел, развалившись в кресле, притянув на колени очередную девчонку, без стеснения шуруя рукой под ее блузкой и потягивая пиво, когда тонкое горлышко винной бутылки неожиданно указало на меня, выбрав в качестве приза для уверенного в себе нахала. Помнится, первую минуту я улыбалась, не принимая выбор фортуны всерьез. Надеясь, что кто-нибудь из более смелых девчонок отметит шуткой факт моего смущения и нежелания продолжать игру, тут же позабыв о Таньке, пока друзья Бампера вдруг не стали подначивать его «на слабо».

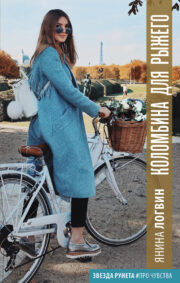
Забавно, интересно, эмоционально
Очень трогательно и искренне, хотя сентиментально….Но так приятно читать на ночь.