— Ты знаешь, кто такой Стив Джобс?
— Да.
— Ему был двадцать один год, когда он начал создавать Apple, — я поднимаю указательный палец. — И Уильям Харлей…
— Мотоциклист?
— Да, ему тоже был двадцать один год, когда он разработал модель первого мотора для велосипеда. Так что, видишь, двадцатиоднолетние не все такие уж молодые.
Она останавливается и секунду осматривает меня снизу-вверх.
— Подожди, так тебе?..
Поколебавшись, я признаюсь:
— Мне только что исполнился двадцать один год. Месяц назад.
Она обдумывает это примерно минуту, а затем кивает.
— Слишком молодой? Слишком старый? — интересуюсь я.
— Нет, я просто… — запинается она. — У тебя фирма, дом… Ты кажешься старше, вот и все.
— О, — бормочу я. — Просто это мой реальный возраст — тот, который ты могла бы выяснить, взглянув в мои водительские права. Мой провинциальный возраст старше.
— Провинциальный возраст? — она едва может произнести слова из-за смеха.
— Да, люди в провинциальных городках взрослеют немного быстрее, чем в большой деревне, вроде города.
— Боюсь спросить, почему.
И вид у нее немного испуганный, но и немного заинтригованный.
— О, это действительно очень просто, — говорю я. — Мы просто вынуждены все начинать раньше. Раньше садимся за руль, раньше начинаем работать, раньше начинаем пить. Думаю, на самом деле, все сводится к работе.
— К работе? — на ее лице появляется небольшая манящая улыбка. Интересно, известно ли ей, что это сводит меня с ума?
— Да, — говорю я. — Например, чтобы помогать деду по хозяйству, мне пришлось научиться водить в тринадцать лет. И после долгого дня работы в поле, все, чего мне хотелось, это стакан холодной содовой. Но у дедушки всегда было только холодное пиво. Таким образом, я впервые выпил пива в тринадцать лет, и никто даже глазом не моргнул. На самом деле, дед пришел следом за мной на кухню, тоже взял себе пиво из холодильника и сел напротив меня. И мы вроде разговаривали об отбивных и картофельном пюре на ужин, который готовила бабушка.
Я пожимаю плечами.
— Итак, видишь, я действительно выгляжу на двадцать три — двадцать четыре года, как ты и подумала.
Она ничего на это не отвечает, но почему-то я уверен, что ее улыбка искренняя. Может, это от того, что ее глаза такие же яркие, как закатный свет, который мы как раз сейчас имеем возможность наблюдать.
— Вау, это все объясняет, — наконец произносит она перед очередной паузой. — Прошлой весной я окончила Университет Миннесоты.
— Университет Миннесоты, да?
— Да, — подтверждает она.
Я пытаюсь сглотнуть.
— Мне двадцать три, — сообщает она.
— Хорошо, — говорю я, прочищая горло. — Могу заверить, что я самый старый из всех двадцатиоднолетних, которые тебе когда-либо встретятся.
Она смеется и берет меня под руку.
— Это мы еще посмотрим, — обещает она, даря мне еще одну манящую улыбку.
Боже, я уже обожаю эту улыбку.
Мы делаем еще несколько шагов, как вдруг она останавливается.
— Что? — спрашиваю я.
— Бамбук, — отвечает она.
Я смотрю в направлении ее взгляда. Роуз Даррен продавала здесь эти нелепо выглядящие растения в течение многих десятилетий. Ходили слухи, что все стены ее дома выложены бамбуком, и что даже прах покойного мужа она поместила в одно из растений и спит с ним каждую ночь. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, потому что, если честно, когда слушаешь подобные истории с детства, то держишься на расстоянии. Черт, до настоящего момента я даже не знал, как называются эти нелепые штуки.
Я наблюдаю, как Эшли подошла к киоску и сразу обратила внимание на бамбук с двумя длинными зелеными стеблями, торчащий из стеклянного кувшинчика.
— Два стебля означают любовь… и удачу, — произносит она.
Я подхожу ближе и вручаю ей это нелепое растение. Мне всегда казалось, что они похожи на свинячьи хвостики, потому что завивались на концах. То, что это символ любви и удачи, никогда не приходило мне в голову. Я смотрю, как она переходит к следующему кувшину с растением с тремя торчащими из него стеблями. И бессознательно я запоминаю то, как она нежно поглаживает пальцами стебель. Какое-то благоговение и нежность в ее движениях. Я не видел никого, кто бы так относился так к растениям. Знаю, это может показаться сумасшествием, но именно из-за этого я начинаю снова восхищаться ею.
— Три стебля означают счастье, долгую жизнь и богатство, — произносит она, вытаскивая меня из моих мыслей.
Я смотрю на выражение ее лица. Оно нежное и задумчивое.
— Откуда ты все это знаешь?
Она пробегает пальцами по маленьким листочкам.
— Моя бабушка любит такие вещи. Она знает, что означает каждый из них.
Эшли задерживает руку на листике, а потом убирает ее.
— Каждое число стеблей означает что-то свое.
Я киваю и улыбаюсь, одновременно поглядывая на Роуз, сидящую за своеобразной стеной из растений. Она сидит на шезлонге и вяжет что-то длинное и голубое. Она делает вид, что не интересуется нашим разговором, но я знаю, что все-таки незаметно подслушивает. Время от времени я ловлю ее взгляд и улыбку. И я замечаю еще кое-что: она не такая страшная, какой ее рисовал мой восьмилетний разум.
— Я думаю, мне нравятся два стебля, — сказала Эшли. — Я имею в виду: что хорошего в долгой жизни и богатстве, если у тебя нет любви?
Она смотрит на меня с вопросом в глазах.
— Хорошая мысль, — соглашаюсь я. — Мы возьмем кувшин с двумя… эээ…
— Бамбуковыми стеблями, — к счастью, Эшли заканчивает мою фразу.
Я достаю из заднего кармана свой бумажник.
— Нет, — возражает она, касаясь моей руки. — Ты не должен делать этого.
— Но я хочу, — заверяю ее.
Я достаю купюру и передаю ее Роуз.
— Плюс, Роуз никогда не спустила бы мне с рук, если бы я позволил заплатить тебе за растение любви.
Я подмигиваю Роуз.
— Это правда, — соглашается та.
Седая женщина дарит мне суровый взгляд, но его сразу же сменяет одобрительная улыбка. И улыбка не остается незамеченной, поскольку я беру кувшин и передаю его Эшли.
— Твой цветок любви, — говорю я.
— Спасибо, — благодарит она, принимая бамбук.
Она выглядит счастливой. Я надеюсь, так и есть.
Мы идем дальше, пока, несколько минут спустя, не добираемся до скамейки в парке, метко названном Тенистым, на противоположной стороне от Солнечной площади. Скамейка стоит прямо на вершине насыпи, с нее открывается вид на реку. Сейчас сумерки, и без света на этой стороне квартала еще темнее. На самом деле, пока мои глаза не приспособились, я не могу увидеть даже собственную руку, поднесенную к лицу. Но сейчас, спустя немного времени, все стало видно намного четче.
Я сажусь, она тоже. И поскольку мои глаза прикованы к ее цветку любви, то я замечаю, как она ставит его на землю возле наших ног. Я улыбаюсь, затем смотрю вверх и вижу звезды, появляющиеся одна за другой на черном небе, и вниз, на текущую, словно густая черная нефть, воду.
— Итак, какая у тебя специальность? — спрашиваю я, глядя на нее.
— Литература, — отвечает она, взглянув мне в глаза, прежде чем снова переводит взгляд на реку.
— Это имеет смысл — детские книги.
— Да, — соглашается она.
— Так тебе нравится то, что ты делаешь? — спрашиваю я.
Она около минуты колеблется.
— Да, — кивнув, отвечает она, — да… на данный момент.
Я смотрю на нее.
— А что потом? Какие большие мечты у тебя в рукаве, Эшли Уэскотт?
— Ну…
Я замечаю ее легкий вдох.
— Когда-нибудь я бы хотела написать книгу.

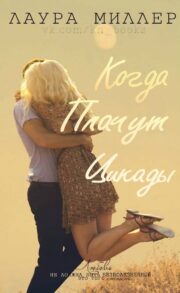
"Когда плачут цикады" отзывы
Отзывы читателей о книге "Когда плачут цикады". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Когда плачут цикады" друзьям в соцсетях.