– Катерина Алексеевна поправилась. Она вам говорила, что у неё за хворь?
– Говорила, что дитё будто понесла, да не вышло.
– Да. И не первый раз это. Если не лечить, то неплодной может стать, многие бабы так становятся.
У Петра сжались жилистые кулаки.
– И что же, помогла твоя знахарка?
– Помогла. Только теперь надо поберечь её несколько времени.
Мария прямо посмотрела в глаза Петру. Тот первым отвёл глаза, дёрнул усом.
– И как ты, девка, говорить о таком не стыдишься?
– Какой же стыд может быть в том, чтоб людям помогать? Стыдиться похоти надо.
Пётр побагровел.
– Ты что суёшься…
И остановился на полуслове, встретив спокойный прозрачный взгляд.
– Эх, Марья, ну чтоб тебе парнем родиться! Я б тебя в школу хирургическую определил, а то и в Голландию отправил на лекаря учиться.
Марию прямо подбросило на стуле.
– Пошлите, государь, ну и что, что не парень, я никакому парню в науках не уступлю…
– Да ты что? Окстись!
– Государь! Пётр Алексеич! Я и по латыни знаю, и как все кости и сосуды называются, и пилюли составлять умею, – умоляюще сыпала она словами, – Меня мейнхеер Кольп учил и говорил, что я не хуже него в лечебных травах разбираюсь.
– Полно, полно, уймись. От Бога положено бабе быть при доме, при муже да детях, и не нам этот порядок рушить.
Замолчала Мария. Согнулись всегда прямые плечи, поникла стройная шея, тяжёлые веки потушили блеск глаз.
– Слышь-ка, Маша, а как так вышло, что ты все натуралии человечьи знаешь? Катеринушка говорила, ты и в женском естестве понимаешь, будто сама рожала. Я-то, в Голландии живши, в музеумы ходил и академию медицинскую посещал, сам даже в анатомическом театре трупы и скотские, и людские расчленял. Сначала боязно было страсть, но потом ничего, пообвык. А ты-то как? Ведь в Москве всю жизнь прожила, где ж ты премудрость эту могла узнать?
– Так лекарь голландский, что у батюшки жил, книги мне свои показывал и словами много объяснял. Мы с ним даже на поварню ходили, когда там убоину разделывали.
– Ну?! – изумился Пётр, – видать, Бог всё-таки в парни тебя предназначал, да что-то перепуталось.
На этот раз Мария смолчала.
– Ну ладно, мне делами заниматься пора – вон уж Макаров за порогом мнётся. А ты вот передай Катерине Алексеевне письмецо. Ты когда к ней поедешь?
– Когда прикажете, государь.
– Давай завтра, сегодня уж вроде поздно.
Мария взяла письмо, поклонилась и вышла.
Весь оставшийся день провела она с царевной Натальей – заучивала с актёрами роли, проверяла, чтобы они говорили согласно с остальными и вовремя друг другу отвечали. Царевна, уже на сцене, заставляла их одновременно говорить и ходить и руками изображать, а также на лице уместные чувства выказывать. Варенька помогала с песенкой, что главная героиня петь должна. Так с ней намучалась – ну никак в лад петь не может. И договорились, наконец, что она только рот открывать будет, а споёт Варенька, за щитом спрятавшись. Вот они теперь и пробовали: Варенька поёт, а та рот открывает.
Нина тоже хотела с актёрами заниматься, да терпенья ей не хватало, чуть что – в крик. И Наталье Алексеевне она не по сердцу пришлась, так что теперь и носу в театральную залу не казала.
Иногда ещё царевна Катерина заглядывала. Но ей так смешно было, как люди заученные слова по многу раз говорят, то руки к сердцу прижимают, то за голову хватаются, что она хохотом заливалась, да выскакивала.
Всё это Варенька Марии шёпотом в коротких перерывах обсказывала.
– Соскучилась я по тебе, Маша, без тебя и перемолвиться от души не с кем.
– А с Ниной вы совсем раздружились?
– Да не то чтобы… Так-то не ругаемся… Но у неё, вишь, сейчас какие заботы – как бы царя к своей персоне поболе привлечь. Да и раньше-то с ней не очень разговоришься – она ведь и передать может. А уж у тебя, как в могиле, что слышала, никому не перескажешь.
Мария засмеялась.
– Что ж, разве по нраву тебе это? Сама ведь обижалась, что я то или другое знала, а тебе не сказала.
– Ну и что, зато я знаю, что и мои слова никому не выдашь. Хорошо, что ты вернулась.
– Ещё не совсем вернулась. Завтра с утра уже обратно.
– Ой, это царь гонит? Нешто без тебя там не обойдутся?
– Ничего, теперь уж недолго.
На другой день Мария встала пораньше и уже затемно была готова в дорогу. Даже завтракать не стала, посошок ей с собой завернули. Царь был доволен её торопливостью, сам проводил до кареты и теперь, стоя рядом с держащим коней кучером, говорил:
– Катерине Алексевне скажи, что пусть она отдыхает сколь надо, и если в чём нужда будет, пусть с вестовым доложит, я сразу всё пришлю. Марципанов вот и фиников передашь, у монахов нет, поди. Письмо не забудь.
Пётр помялся, набычился и с натугой проговорил:
– Вот ещё что, тебе тут, конечно, бабьих сплетен в уши налезло. Так вот, Марья, если ты государыне хоть слово перескажешь – осерчаю. Ты меня знаешь!
– Не беспокойтесь, государь, я в чужие дела не мешаюсь.
– Это я знаю. Но предупредить не лишне. Ну, с Богом!
Мария уже нагнулась в открытую дверцу кареты, когда к крыльцу подскакал всадник на запалённом коне. Крикнул:
– Депеша от главнокомандующего.
Соскочил с седла, протянул пакет, оглянулся на Марию. Чёрные глаза под заиндевевшими бровями, обмётанные холодом родные губы. Господи, Саша!
Пётр сразу сломал печати, начал просматривать донесение. Спросил, не поднимая глаз:
– Кто таков?
– Поручик гвардии Преображенского полка Александр Бекович-Черкасский!
Голос у Саши хриплый, промороженный.
– А, это ты, не признал сразу. Молодцом, господин поручик. Ступай с Макаровым, ешь, грейся, водки выпей. Алексей, распорядись, чтоб быстро всё господину поручику подали.
Оторвал глаза от бумаги, хлопнул Александра по плечу.
– Через час обратно можешь ехать?
– Так точно, ваше величество, господин бомбардир.
– Ну молодцом, иди в дом.
Пётр повернулся к Марии.
– С богом, княжна.
И не дав ей вымолвить слова, почти поднял её в карету, захлопнул дверцу, свистнул заждавшемуся кучеру. Карета мигом выкатилась со двора. Резвые лошади бежали ходко, и вот уже за окошками кончились дома и понеслись вскачь обвешанные сосульками ёлки да берёзы.
Мария всё никак не могла придти в себя от удивления. Хотя ничего особенно удивительного не было. Прислали его с донесением к царю, он же в армии. Может, он даже сам выпросился с этим поручением в Москву, чтоб её увидать. Наташа в письме поминала, что она с Сашей об том случае, когда он Марию с царевичем застал, говорила и всё ему объяснила. Писала, что он даже с батюшкой об ней, об Марии разговор имел. И хоть батюшка согласия не дал, сказал, что после турецкого похода решение примет, но значит, Саша на неё больше не сердится.
А она-то, вот фефёла рассупоненная! Хоть бы слово ему молвила! Стояла столбом, в рот воды набравши. Свиделись, называется! Так сетовала и ругала себя княжна Голицына, когда сзади на дороге послышался крик. Карета встала, и солдат преображенец, из ехавших сзади, сказал выглянувшей Марии.
– Царский гонец догоняет. Подождём, может надоть чего.
Мария посмотрела назад. Лошадь была другая, всадник тот же. Ах, молодец, догнал! Александр, подскакав к самой карете, бросил поводья солдату, взял её руки в варежках.
– Мне Варвара Андревна дорогу подсказала. Здравствуй, Маша.
Она силилась сдержать улыбку, но губы не слушались.
– Здравствуй. А государь за задержку не огневает?
Он тоже улыбался.
– Потом в пути наверстаю. Я ведь сутками могу с коня не слезать, сама знаешь.
– Знаю. Ну так проводи меня до Троицы.
Мария потянула его в карету. Обернулась к солдату, и даже не успела открыть рта. Служивый уже привязывал к карете поводья. Подморгнул Марии:
– Присмотрим за лошадкой, боярышня, не сомневайтесь. Это мы понимаем, у меня самого жёнка в деревне осталась.
Мария насупилась от смущения, а Александр благодарно кивнул.
Она смотрела на него в полумраке кареты и не верила, что это он сидит рядом. У него обветренное лицо, потрескавшиеся губы, морщинки у глаз, и от этого он стал ещё красивее. Он так смотрит на неё, будто не узнаёт. Может, она лохматая? Или глаза опухли? Спала нынче мало.
– Какая ты стала, – еле слышно говорит он.
– Какая? – спрашивает она с озабоченностью.
– Как на картине, али на фреске в церкви. В Италии, там, знаешь, церкви расписывают не как у нас, а как бы живыми людьми. Так у девы Марии италийской – мадонны по-ихнему – лик такой же, как у тебя.
– Скажешь тоже, богоматерь нашёл.
– Вот поедем когда-нибудь, сама увидишь.
– Поедем?
– Вот турков разобьём, Борис Алексеич тебя за меня отдаст. А государь обещался меня по дипломатической части направить, потому как я языки знаю, вот и поедем.
Мария вздрагивает и молчит, потому что её руки оказываются в Сашиных больших и очень горячих руках, и она чувствует, как у неё от кистей вверх к плечам, потом вниз по спине бежит сладкая дрожь. И эта дрожь всё усиливается от Сашиных губ на её пальцах, и ей не хочется не только говорить, но даже шевелиться.
К Троице доехали до обидного быстро. Александр отказался от обеда и хотя бы малого отдыха, прижал последний раз к губам Мариину ладошку, вскочил в седло, махнул рукой. И вот вместо него уже только снежная пыль переливается в лунном свете. Тяжёлые монастырские ворота отворились, снежная пыль опустилась на дорогу, сердце девы стучало сразу во всём теле. Она прижала ладонь к губам, к губам, которые он так и не поцеловал. Не успел? Не посмел? Как он глядел на неё. Её ладони пахли лошадиной сбруей, сеном, сургучом – Сашей.
Катерина, тайновенчанная царица, не спала – ждала. Не спала и ждала, конечно, и Пелагея. Накинулись, затормошили, одна с расспросами, другая с едой. На расспросы Мария отвечала исправно, а есть не могла. Сидела перед богатым набором разносолов – хорошо живут монахи – и не могла съесть ни кусочка.

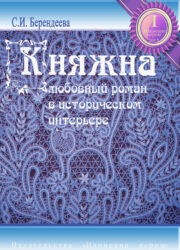
"Княжна" отзывы
Отзывы читателей о книге "Княжна". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Княжна" друзьям в соцсетях.