Когда же распахнулись двери и ввалился перепачканный дорожной грязью Роб, Леттис уронила кинжал и кинулась к нему с возгласом облегчения. Она простерла к нему руки, чтобы обнять, – но он с грубой силой отстранил ее, оставив на ее нежной коже свинцовые синяки.
– Спокойно, жена, не время... – грубо произнес он.
– Но я так рада вас видеть! – воскликнула Лет-тис, однако быстро овладела собой и закусила губы, чтобы удержать рвущийся на волю поток нежных излияний. Домашние не признали бы свою ленивицу и глупышку Леттис в этой молодой женщине с настороженным взором, готовую в любой момент умертвить детей. Роб в этом не увидел ничего необычного. Он сказал только:
– Ах, так ты знаешь новость...
– Да, я узнала обо всем час назад.
– Готовься к отъезду. В Стерлинге безопаснее. Выезжаем сегодня же – до полуночи еще далеко, и если мы поспешим, то опередим смерть.
– Мы готовы, – спокойно ответила Леттис. – Нам нужно только переодеться в дорожное платье. А смерть уже близко?
– Она всегда стоит у нас за плечами, дорогуша, – сострил Роб. – Но есть кое-что, что может качнуть весы в нашу пользу. Ведь это не политическое убийство.
– Как! – изумилась Леттис. – Но я полагала... я уверена была... разве не Мортон?..
– Нет, хотя сейчас все в этом уверены. На самом же деле Морэя прикончили из-за личной обиды, и не кто иной, как мой кузен, Гамильтон из Босуэллхоу. Кажется, Морэй разорил его дом в Рослине, надругался над женой и убил ее, и присвоил себе его поместья – Гамильтон просто отомстил. Это я знаю от его слуг, которые обращались ко мне за помощью. Я переправил их через границу и поспешил сюда. Когда все выяснится, я могу и крупно выиграть…
– Так регентом станет Леннокс?
– Да, но долго это не продлится. Мортон будет управлять им как марионеткой, а потом расправится с ним. Надо держаться Мортона. Но все же пока вам следует укрыться в Бирни.
– А вы, милорд? – спросила взволнованная Леттис. Сердце ее бешено колотилось – она не видела его вот уже полтора месяца, и каждая его отлучка делала мужа еще более дорогим ее сердцу: ведь она никогда не знала, доведется ли им снова свидеться... Однажды он умрет – и что тогда станется с ней? Придется бежать через границу, размышляла она постоянно. Если ей удастся добраться до Ридсдейла, то Джон и Мэри ее не оставят...
– Моя правая рука еще крепка, – Роб положил ладонь на ножны. – Если я не смогу защититься, то я недостоин жить.
– О, берегитесь, супруг мой! – выдохнула Леттис. Он взглянул ей в лицо, и в первый раз за вечер их взгляды встретились. Она увидела, как ноздри его затрепетали и сверкнули белые острые зубы, обнажившиеся в привычной ухмылке. Он, как и всегда, читал по ее лицу...
– У нас мало времени до отъезда – нужно подкрепиться. Ты сможешь теперь поесть только в Бирни. Мэкки, пойди и приготовь ужин. Кэт, уведи детей и одень их, потом сведи в зал и накорми. Мы спустимся чуть позже. А теперь идите, все!
Мэкки поспешил удалиться, за ним последовала Кэт с малышкой на руках и обе девочки. Когда дверь за ними захлопнулась, Роб повернулся к Леттис с той самой белозубой бесстыдной усмешкой, от которой у нее запылали щеки от ужаса, смешанного с желанием.
– А теперь – на случай, если мы не свидимся больше, – сказал Роб, приближаясь к ней, – давай простимся так же, как мы когда-то приветствовали друг друга впервые...
Леттис запрокинула лицо, зажмурившись – его губы припали к ее рту, а сильные пальцы уже расшнуровывали корсаж. Когда они оба обнажились, он стал нежно касаться ее белоснежного тела своими темными ладонями то тут, то там – на лице его было написано удивление, от которого она вся затрепетала. Роб тяжело дышал.
– О Боже, леди, как вы белы и нежны... – шептал он. – Лягте – и позвольте посмотреть на вас...
Она покорно легла на постель – он во все глаза глядел на нее, а она тоже не могла отвести взгляд от мощного, могучего, смуглого и покрытого темными волосами тела, такого, казалось, враждебного ее собственной сияющей белизне... Она чувствовала биение каждой жилки собственного существа, ее сознание раздвоилось: одна Леттис хотела отвести взгляд в смятении и ужасе, а другая Леттис всем существом своим жаждала отдаться этой всесокрушающей мощи... Он прочел все это на ее лице и, весь дрожа, прильнул к ней всем телом, твердым, словно скала – так же, как и она, во власти всепоглощающей страсти. Он не мог больше сдерживать желания, он жаждал ее тела – когда они слились, то оба вздрогнули, словно от острой боли...
Оба они потеряли рассудок от страсти, которая все усиливалась – каждый растворялся в другом, теряя себя – и это было невыносимо. Роб обхватил ее за плечи, скрежеща зубами и, словно сражаясь с ней, как с врагом в честном бою, кричал, себя не помня:
– Дай мне сына! Дай мне сына, леди!
А Леттис, другая Леттис, выпущенная на волю из жалкого убежища добронравия и благовоспитанности, страдая от этой мучительной любви и упиваясь ею, кричала в ответ:
– НЕТ, ЭТО ТЫ – ДАЙ МНЕ СЫНА!
Они беспрепятственно достигли Бирни и осели там, ведя затворническую жизнь добровольных изгнанников. К Рождеству ситуация прояснилась окончательно – Леннокс стал регентом, Мортон – его правой рукой, а Роб Гамильтон вновь вернул себе расположение властителей. Ну, а Леттис – Леттис вновь была беременна. Оставаясь одна, она продолжала тайно молиться, перебирая четки – она просила Пресвятую Деву хранить ее и будущее дитя, и подарить ей и мужу желанного сына... Просила она также и о том, чтобы вернуться в Аберледи и быть рядом с мужем – или чтобы он приехал повидать ее... Ведь они не виделись с той самой январской ночи, и она уже видела перед собой нескончаемую череду таких же одиноких дней – месяц за месяцем будет она томиться в одиночестве, поджидая редких и пронзительных моментов счастья, когда жизнь обретает для нее смысл...
Разрешилась она в октябре, в Бирни-Касл – родился сын, и спешно был послан нарочный, чтобы обрадовать Роба. Его восторг превзошел все ожидания Леттис, затмив на время ее собственное счастье. Младенец был окрещен Робертом – в честь отца и деда. Но государственные дела вынудили Роба тут же уехать. Больше он не увидел сына: смерть похитила ребенка через три недели, в канун дня Всех Святых... Почти целый год Леттис не видела мужа. За это время Леннокс, как и предсказывал Роб, был убит, регентом стал Мортон, а Роб переметнулся под его крыло…
Было бы несправедливым упрекнуть Вильяма в том, что он позабыл родной дом – но усадьба Морлэнд словно скрылась в тумане, и он редко вспоминал ее... Он время от времени думал о том, что ему когда-нибудь придется возвратиться туда, чтобы наследовать отцу – но предпочитал отгонять эти мысли. Он был совершенно счастлив при дворе, считал его средоточием жизни и приходил в ужас от мысли, что ему придется вновь уехать в далекий и дикий Йоркшир.
Он процветал при дворе. Его козырной картой был чудесный голос, восхищавший всех, когда он был ребенком – и он частенько находился при государыне. Он научился аккомпанировать себе на лютне и цитре, полегоньку сочинял песни, овладел трубой и гобоем – словом, стал недурным музыкантом, что при дворе, кишащем эстетами, было прямым путем к успеху.
В 1571 году ему исполнилось семнадцать. Ему крупно повезло: голос его, сломавшись, не очень сильно переменился, оставшись высоким и чистым. Конечно, он уже не мог брать тех высоких нот, что в детстве принесли ему славу – но голос его понизился всего на пол-октавы, и Вильям стал лучшим высоким тенором в Уайтзале. Бородка у него еле пробивалась – бриться ему приходилось не чаще двух-трех раз на неделе. Поначалу то, что ему никак не удавалось отрастить это истинно мужское украшение, расстраивало его, да и другие пажи над ним втихомолку подсмеивались – но, повзрослев, он смирился с неизбежным и даже попытался извлечь из этого выгоду. Он брился дочиста – и гладкое лицо даже вошло в моду. Теперь он в свою очередь подсмеивался над другими молодыми людьми – они, дескать, уродуют лица грубой растительностью...
Его волшебная красота, стяжавшая ему в свое время прозвище «ангельского дитяти», оставалась прежней. Он был невысок и очень строен, со светлой кожей и нежнейшим румянцем, светлые волосы, гладкие и блестящие, словно шелк падали на плечи и спину мягкими локонами. Голубые сияющие глаза были чуть раскосы, что делало его внешность еще более пикантной и придавало ему сходство с фавном или другим мифологическим персонажем. Королева любила окружать себя красавцами, и, хотя ей всегда были больше по вкусу высокие и статные юноши, ей нравилась ангельская и нежная наружность Вильяма, его тихий нрав и музыкальность – и она приблизила его к себе.
Придворные дамы вовсю увивались вокруг Вильяма. Они испортили бы и избаловали его вконец, если бы не его природная скромность – а также и то, что он не любил женщин. Для него в них было нечто пугающее и отталкивающее: он терпеть не мог их вычурные неестественные одежды, в ужас приходил от густо накрашенных лиц. Они все были похожи, словно сестры: своими мертвенно-бледными набеленными щеками, подведенными черной тушью глазами и алыми ртами они напоминали ему диковинных хищных птиц. А когда какая-нибудь из них, шутя, привлекала его к себе, что частенько случалось, – он видел сквозь толщу белил все морщинки и неровности кожи, и с ума сходил от запаха нечистого тела, перебивающего аромат духов…
Лишь для двух женщин он делал исключение. Одна была королева – ее он боялся, как и все остальные – но любил и уважал за выдающийся ум, прямоту, силу духа и необыкновенную притягательную силу. Она тоже была накрашена, затянута в изысканное платье и завита, но чутье подсказывало Вильяму, что это всего лишь маска, надетая по необходимости, а не из пустого тщеславия – а из-под нее проступало презрительное и умное лицо... И она была чистюлей. Подходя к ней, он никогда не чувствовал никаких посторонних и неприятных запахов. Поэтому он был привязан и к своей бабушке Нэн, безотлучно находившейся при государыне и постоянно приглядывающей за ним, давая мудрые советы и наставляя его. Нэн никогда не портила лица белилами, а платье ее было предельно простым – насколько это было возможно при дворе. Волосы она прятала под льняной чепец, и от нее всегда пахло мылом и розмарином. Она не баловала и не ласкала Вильяма – всегда говорила с ним прямо и честно, делала замечания... Но уж коли она хвалила его новую песню, то Вильям знал – она и вправду хороша: бабушка Нэн не умела льстить.

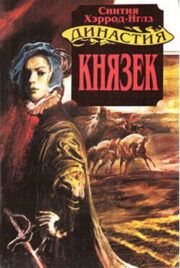
"Князек" отзывы
Отзывы читателей о книге "Князек". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Князек" друзьям в соцсетях.