Адам поцеловал ее на прощание, и она на секунду к нему прижалась.
– Пока. Спасибо тебе, – мечтательно проговорила девушка, и он поцеловал ее еще раз.
– Это тебе спасибо, милая, – шепнул Адам, закрывая дверцу машины.
– Приятный сюрприз, – с улыбкой сказал Чарли, когда Адам присоединился к ним. – Люблю, когда у нас за завтраком гости, особенно такие хорошенькие. Как думаешь, не поспешить ли нам отсюда, пока ее родители не явились с дробовиком по твою душу?
– Надеюсь, что нет, – хмыкнул Адам, весьма довольный собой. Ему нравилось иногда превратить яхту Чарли в место увеселений. – Ей двадцать два года, и, кроме того, она учится на медика. Я у нее не первый. – Правда, он готов был согласиться, что выглядит Уши значительно моложе своих лет.
– Ты меня разочаровал, – рассмеялся Чарли и раскурил сигару. Летом, на яхте, он иногда позволял себе это удовольствие и утром. Что им всем определенно нравилось в их жизни, так это то, что, вопреки накатывающему временами одиночеству, они всегда были сами себе хозяева. В этом и заключалось главное преимущество холостяцкой жизни. Можно есть не по часам, а когда голоден, одеваться как заблагорассудится, пить, сколько захочешь, и проводить время, с кем тебе нравится. Есть только ты и твои друзья, и все трое считали такую ситуацию оптимальной. – Может, найдем тебе девственницу в следующем порту? Хотя боюсь, что здесь их уже днем с огнем не сыщешь.
– Очень смешно! – Адам ухмыльнулся, гордый своей вчерашней победой. – Ты просто завидуешь. А кстати, где собираемся причалить? – Адаму нравилась возможность перемещаться с места на место, не меняя своей каюты и привычного комфорта. Можно купаться в роскоши, планировать свою поездку, как вздумается, меняя эти планы по малейшей прихоти, и каждую секунду к твоим услугам вышколенная команда.
– А вы бы где хотели? – спросил Чарли, обращаясь к обоим приятелям. – Я предлагаю Монако или Портофино.
После некоторого обсуждения решили начать с Монако, а в Портофино пойти потом. Монте-Карло находилось совсем рядом, в двух часах от Сен-Тропе, а Портофино – подальше, часов восемь хода. Как Чарли и предполагал, Грей был согласен с любым вариантом, а Адам хотел непременно отметиться в казино.
Сразу после обеда, состоявшего из роскошного шведского стола с морепродуктами, они снялись с якоря. Немного поплавали, после чего тронулись в путь. До самого Монако друзья нежились в шезлонгах на палубе. К моменту прибытия все трое крепко спали. Капитан снайперски пришвартовал яхту к причалу, с помощью кранцев амортизируя возможные удары других яхт. Порт Монте-Карло, как всегда, был забит большими яхтами, так что «Голубая луна» не казалась здесь огромной.
В шесть часов Чарли проснулся, огляделся и перевел взгляд на друзей – оба продолжали спать крепким сном. Чарли принял душ и переоделся, а в семь проснулись и Грей с Адамом. После вчерашних подвигов Адам был немного утомлен, но к ужину все трое уже были в отличной форме.
Старший стюард вызвал такси и зарезервировал столик в «Людовике XV», где обстановка и посетители диктовали более строгие требования к одежде. По этому случаю все трое облачились в пиджаки и галстуки. Чарли надел кремовый льняной костюм с рубашкой того же цвета, а Адам – белые джинсы с блейзером и мокасины крокодиловой кожи на босу ногу. Грей обрядился в голубую рубашку, слаксы цвета хаки и допотопный блейзер с красным галстуком. Из-за седины он выглядел старше своих друзей, правда, в его облике было нечто экстравагантно-бунтарское. Как бы ни был одет Грей, в нем безошибочно угадывался художник. За ужином он оживленно жестикулировал, рассказывая друзьям истории из своей юности. Например, поведал о том, как недолгое время жил на Амазонке. Рассказ получился довольно забавным, но тогда для него, мальчишки, это был сущий кошмар. Его сверстники ходили в школу, катались на велосипедах, подрабатывали доставкой газет, бегали в школу на танцы. Он же бедствовал то среди индийской бедноты, то в буддистском монастыре в Непале, то с бразильскими туземцами и изучал наставления Далай-Ламы. Он был фактически лишен детства.
– Что мне вам сказать? Родители у меня были не в себе. Зато скучать не приходилось. – При этих словах Адаму подумалось, что его-то детство как раз протекало до тошноты скучно и обыденно, и ничто в его жизни на Лонг-Айленде не могло сравниться с тем, о чем рассказывал Грей. А Чарли о своем детстве вспоминал редко. Поначалу все было предсказуемо, респектабельно и традиционно – до момента гибели родителей. Дальше пошла черная полоса. А когда пятью годами позже умерла его сестра, Чарли совсем потерял вкус к жизни. Он говорил об этом только со своим психотерапевтом и никогда с посторонними. Умом он понимал, что, пока не случилась беда, в его жизни было немало радости, но он этого словно и не помнил, а вот все несчастья сохранились в памяти отчетливо. Лучше думать о сегодняшнем дне, а воспоминания оставить для консультаций. Но даже под нажимом психотерапевта они давались ему с трудом и всякий раз повергали в отчаяние. Никакими утешениями и земными благами невозможно компенсировать утрату самых дорогих его сердцу людей – а вместе с ними и семейной жизни. И как бы он ни старался, воссоздать ее он был не в силах. Казалось, он навсегда лишился стабильности и уверенности, какую дает семья, а заодно и способности создать с кем-то такой же союз близких душ. Сейчас самые близкие отношения у него были только с этими двумя приятелями, и больше ничего похожего на душевную близость он не испытывал за все двадцать пять лет, прошедших после смерти сестры. Тогда, двадцать пять лет назад, Чарли оказался бесконечно одинок, без тепла, заботы и любви близких. Сейчас, слава богу, у него есть два надежных друга. И он знал, что они его всегда поддержат – точно так же, как он поддержит их. Для каждого из них это было великое утешение. Их объединяла крепкая мужская дружба, полное доверие и взаимная симпатия, а это уже немало.
Они долго сидели за кофе с сигарами, Адам и Грей рассказывали о своих детских годах. Чарли с интересом отмечал про себя, насколько по-разному они воспринимают одни и те же вещи. Грей давно смирился с тем фактом, что его приемные отец и мать были чудаковатыми эгоистами, а соответственно – никудышными родителями. И настоящего дома у Грея не было. Родители кочевали по свету, вечно в исканиях, неизменно бесплодных. А к тому времени, как они осели в Нью-Мехико и усыновили еще одного ребенка, Боя, Грей уже давно жил своей жизнью. Он виделся с Боем, когда изредка появлялся дома, но опасался привязанности. Он не хотел, чтобы что-нибудь в жизни объединяло его с родителями. В последний раз он виделся с Боем на похоронах родителей, после чего прервал с ним связь. Порой из-за этого его мучила совесть, но он вычеркнул из своей жизни всякие напоминания о своей непутевой семье. Само это слово – «семья» – для него ассоциировалось со страданиями. Иногда он задавал себе вопрос, что стало с Боем после смерти родителей. До сих пор Грею удавалось подавлять в себе порывы отыскать брата и взять на себя ответственность за него. Когда-нибудь он, может, и разыщет его, но не теперь. А может, этого и вообще не случится. И останется этот мальчик только в его воспоминаниях как славный и добрый ребенок.
У Адама тоже осталась обида на своих родителей. Их участие в его жизни, а точнее, отсутствие какого-либо участия, и царившая в доме гнетущая атмосфера вызывали его негодование. Главным воспоминанием его детства было то, как мать всех пилит, как придирается к нему, самому младшему, и как его все третируют, словно непрошеного гостя, поскольку он имел несчастье родиться так поздно. Он помнил, что отец вечно пропадал на работе. Да и как его винить? С тех пор, как Адам в восемнадцать лет уехал в Гарвард, он и сам дома почти не появлялся. Навестит на праздники – и скорее назад. С него и этого хватало. Он считал, что такая атмосфера в семье привела к тому, что они с братом и сестрой не питают друг к другу никаких родственных чувств. От родителей они научились только наводить критику, поглядывать друг на друга сверху вниз, придираться к мелочам и пренебрежительно отзываться об образе жизни того или другого.
– В нашей семье не было никакого взаимного уважения, – вспоминал Адам. – Мать отца в грош не ставила и вечно пилила. Думаю, отец ее в душе ненавидел, хотя ни за что в этом бы не признался. Да и мы, дети, никогда между собой не дружили. Сестру я считаю жалкой и скучной личностью, брат у меня – напыщенный кретин, его жена – в точности как наша мамаша, а они убеждены, что я якшаюсь с одними подонками и шлюхами. Никакого уважения к моей работе. Они толком даже не знают, чем я занимаюсь. Их не интересую я сам, зато очень волнуют мои, как они говорят, двусмысленные связи с женщинами. Я вижу свою родню только на свадьбах, похоронах и по большим праздникам, да и то лучше бы их всех не видеть. Детей к старикам возит Рэчел, так что хотя бы от этой обязанности я свободен. Они обожают Рэчел, причем так было всегда. Они даже готовы смотреть сквозь пальцы на то, что она вышла за христианина, главное для них то, что она воспитывает детей в еврейских традициях. Для них она вообще безгрешна, а я, напротив, не способен ни на что хорошее. К счастью, это меня уже давно не трогает.
– Что-то не похоже, ты ведь продолжаешь с ними видеться, – заметил Грей. – Значит, тебе не все равно. Может, ты до сих пор нуждаешься в их одобрении или подсознательно его ждешь. Это нормально, просто иногда приходится признавать, что наши родители на это не способны. Вот и получается, что в детстве, когда нам так нужна их любовь, мы ее лишены, они не умеют любить. Мои-то точно не умели. Думаю, на свой лад они к нам с сестрой хорошо относились, только они и понятия не имели, что значит быть родителями. Когда они усыновили Боя, я ему очень сочувствовал. Уж лучше б собаку купили! Думаю, когда мы выросли и разъехались, им просто стало скучно, вот они и взяли мальчишку.
И вот моя сестрица где-то в Индии живет с нищими под открытым небом. Она всю жизнь пыталась ощущать себя азиаткой, а теперь, наверное, считает, что наконец ею стала. Она ничего не знает о своем происхождении, да и родители не знали. Я о своем – тоже. До сих пор задаюсь вопросом, кто я и откуда. Думаю, в конечном итоге это и есть главный вопрос: кто мы такие, во что верим, как живем и как хотели бы жить?

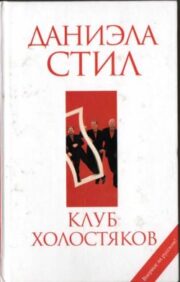
"Клуб холостяков" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клуб холостяков". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клуб холостяков" друзьям в соцсетях.