Наша спальня – рай. На полу королевского размера циновка с красивыми подушками со всего мира. Повсюду свечи и ароматные палочки. Стены украшены одеялами из Мексики. Мы не могли раскрасить стены, поскольку квартира не наша, а арендованная, зато покрыли каждый сантиметр, и даже потолок, чувственной материей. Гато называет эту комнату «нашей утробой». Мы разделись и посмотрели друг на друга.
Гато добр ко мне – нежен, открыт, любвеобилен. Большинство мужчин не знают, как себя вести, чтобы партнерша осталась другом и человеческим существом, когда на ней нет одежды. Они произносят ужасные вещи. Гато первый встреченный мной мужчина, кто улыбается, когда мы занимаемся любовью. Так же, как во время обеда или когда мы шутим. Первый, кто по-настоящему любит меня. Наши тела сливаются в одно. Мирный вид страсти – тихо теплящийся огонь. Когда мы с Гато занимаемся любовью, мне кажется, наши предки восстают по всей Ацтлании и сотрясают землю.
Мы достигаем оргазма вместе. Всегда. Гато изучает йогу и удивительно умеет управлять своим телом.
– Я прислушиваюсь к твоему телу, – говорит он. – Слышу его аккорды и мелодии, когда оно напрягается. Чувствую, как свое собственное.
Потом Гато поднимается, чтобы выключить заливающийся свистом чайник. Заваривает чай, разливает с лимоном и медом в глиняные чашки, купленные нами у навахо во Флагстафе[99], где Гато выступал в университете. Я сажусь в кровати и держу чашку в ладонях, счастливая и усталая как никогда. Мышцы болят. Может, Гато натер меня своим эликсиром из корня марихуаны?
– Так это был Джоэль Бенитес? – спросил он. Потрясающе: Гато все это время знал и не сказал ни слова! Я почувствовала себя такой виноватой, что не могла говорить. Только кивнула. Но почему он молчал? – Что он тебе сказал? – Я заметила боль в его глазах, хотя Гато делал все, чтобы скрыть это. Я вспыхнула, мне было стыдно. Я потупилась и смотрела в чашку. – Потрясающе! – Гато потянулся и нежно поцеловал меня. Я подняла на него глаза, и он провел пальцем по моей щеке. – Твоя радость – моя радость. Поверь! – Я ничего не заметила ни в его лице, ни в голосе. Но глаза… В глазах была зависть.
– Извини, – проговорила я. – Я хотела бы, чтобы это был ты. Извини.
Гато пожал плечами и улыбнулся, однако глаза его оставались грустными.
– За что, любовь моя? Я так рад за тебя.
Я снова ощутила его руки и поняла, как счастлива. В прошлый раз, когда собирались sucias, Лорен так много жаловалась на мужчин, что я едва не поверила ей. Твердила, что даже самые приятные и замечательные – на самом деле подонки. Она ошибается. Гато – само совершенство. Он один из немногих, кто способен подняться над своим воспитанием махиста.
Гато рад за меня, и я уверена, что он говорит правду.
ЛОРЕН
Я была потрясена, как и весь город, когда узнаю о самоубийстве Дуайта Рирдона, давнишнего обозревателя «Газеттметро» и иногда моего наставника. Те из нас, кто знал Дуайта, знали добро – его гулкий смех, его вроде бы циничный подход к местной политике, которым он прикрывал, как маской, сочувствующее сердце, и ощущали поддержку, оказываемую им молодым журналистам. Но знали все те сезонные расстройства, которыми Дуайт страдал много лет. Вступая в мрачные дни, он хмурился, жаловался на головные боли и каждому, кто приближался к его столу, рассказывал, как подавлен. А в особо трудные периоды нарушал график. Ошибка в том, что мы не принимали слова и симптомы Дуайта всерьез. Считается, что сезонные расстройства как форма депрессии связаны с переменой времен года и недостатком солнца, когда дни становятся короче, а погода холоднее. Бостонцы знают, каково выходить утром на работу затемно и возвращаться к вечеру – тоже затемно. Когда январь влачит свои темные дни, я советую всем страдающим от сезонных расстройств обращаться за помощью. Жаль, что мне не хватило здравого смысла помочь Дуайту. Я по нему скучаю. Без его слов город кажется безотрадным.
Здание редакции «Бостон газетт» похоже на большую отвратительную государственную школу. Его построили в шестидесятых годах и постоянно патрулируют мясистые придурковатые матроны с сетками на волосах. Красный кирпич, зеленые оконные стекла и лужайки, которые так и тянули бы к себе, если бы не надписи «По газонам не ходить». Одну сторону этой громадины обрамляет гараж оранжевых грузовиков. А за зданием располагается погрузочный терминал, где сидят профсоюзные ребята и читают «Гералд», хотя сами работают в «Бостон газетт». В этом городе газеты отражают проникающие повсюду классовые конфликты. Профсоюзным ребятам нравится «Гералд», потому что они считают ее изданием рабочего человека – таблоид с большими картинками и никакой чуши из области мульти-культур. Они приносят ее под мышками, прижимая к себе мускулистыми руками. А потом оставляют повсюду, чтобы видели мы, корреспонденты, когда выбегаем из здания на снег и ветер.
Единственный автор «Газетт», который после смерти Дуайта нравится грузчикам, – это Мак О'Малли. Наше издание публиковало его левые опусы о том, почему должны работать женщины или почему следует покончить с позитивными действиями[100], пока служба проверки фактов журнала «Маккол» не доказала, что он выдумывает и сюжеты, и персонажи. В первую неделю моей работы в редакции его старинный приятель спортивный комментатор Уилл Харриган отвел меня в сторону и, обдав запахом виски, пробурчал:
– Деточка, я дам тебе три совета, как здесь работать. Первое: О'Малли сочиняет чушь. Второе: Дуайер (главный редактор) – умственный овощ. Третье: не носи слишком коротких юбок, а то меня бросает в пот.
Наконец после множества предупреждений О'Малли вышибли, но он стал заколачивать еще больше денег, кропая такие же статьи для нью-йоркского таблоида, где точность никогда не ценилась. И еще я как-то узнала, что он ведет ток-шоу на одном из кабельных каналов.
Внутри здание «Газетт» производит угнетающее впечатление. Длинные, гулкие коридоры с серой плиткой на полу и мигающие люминесцентные светильники. Свежий воздух не проникает сюда с улицы несколько десятков лет – с тех пор, как краснорожие сердитые люди с юга швырнули в фасадное окно «коктейль Молотова». Когда по вечерам включаются печатные станки, весь дом содрогается. На столах у тех, кто сидит под вытяжками, скапливаются кучки субстанции, похожей на сажу. Вам объяснят, что это пыль, но все прекрасно понимают: на столах чернила.
Окна есть только в кабинетах старших редакторов. А в моем крыле очеркистов их нет и никогда не будет. Свет дают длинные, голые, похожие на бедра трубки. Некогда фиолетовый ковер приобрел цвет выцветшей джинсы. Право, не знаю, как это случилось.
Но несмотря ни на что, я люблю свой стол. Украсила его мексиканскими циновками и бусинами, чтобы всех отпугивать. И стол стал походить на свадебный торт посреди редакционной комнаты. Я делю ее вместе с сорока другими репортерами и редакторами. Стол их нервирует. И надеюсь, вызывает зависть и настороженность. На самом видном месте, на терминале компьютера, красуется Пресвятая Дева Гваделупская, и медные стрелки сломанных часов указывают на ее пупок. В ящике бутылка масла «Босс би фикст», которую я купила за два бакса в ботаническом саду, когда до того, как получила колонку, занималась агрессивной рекламой религии Пало Майомби. Неделями проталкивала редактору, пока он согласился. «Пало? Что за фрукт? Вроде Буду?
Если поклонение сатане, наши читатели не поймут. Мы очень патриотичны и с христианским уклоном. А все остальное вымарывается. Здесь, в Норт-Энде, есть парочка подходящих святых, кстати, этнических. Вот их и опиши. По-итальянски понимаешь? Вот двадцать баксов, принеси мне biscotti, миндальный».
К телефонной трубке я прилепила две высохшие красные фасолины и куклу Барби с короткой стрижкой и в боевой раскраске. На массивную перегородку, отделяющую меня от буйных, пердящих ребят из спортивного отдела, прикнопила нашу с Эдом фотографию. Рядом повесила список ведущих латиноамериканских бизнесменов в районе Бостона (все мужчины), которые до того, как я начала работать в «Газетт», помогали слабым испаноязычным изданиям, полагая, что «Газетт» нет дела до их проблем. Так оно и было. Но с тех пор как здесь появилась я, мы обе – и газета, и я притворялись, что это не так.
Следуя великой загадке, именуемой карьерой, я настроила себя на встречу с нашим дерганым недоумком-редактором Чаком Спрингом. Попытаюсь уломать его, чтобы он одобрил материал об исконной вражде пуэрториканцев и доминиканцев.
Не прошло и минуты после того, как я нажала на клавишу отправки сообщений, на экране появилась надпись: «Зайдите». Так обычно реагирует Чак, когда соглашается обсудить идею статьи. Во всяком случае, со мной или Айрис – другой женщиной-хроникершей. А вот Джейку или Бобу шлет послания теплее. Потому что Джейк окончил Гарвард – альма-матер нашего редактора – и был членом того же «Файнал клуба». Для тех, кто не знает, «Файнал клуб» был признан университетом незаконным, потому что не допускал в свои ряды женщин. Иногда женщинам даже не разрешалось проходить внутрь через парадную дверь, если только их надежно не прятали внутри громадного пирога. Тем не менее «Фай-нал клуб» продолжал собираться, только в нескольких кварталах от университета, чтобы не привлекать к себе внимания. Чак до сих пор носит знаковую рубашку с красными пуговицами до пояса и знаковый полосатый галстук, который некогда надевал в клуб. Они все так поступают. Бандитские цвета.
Начальники Чака считают, что у него интеллект новорожденного хомячка. Но он обладает связями. И все, кто дорожит своей карьерой, не желают с ним связываться. Между прочим, Чак – крестный издателя. Сам он принадлежит старой семье из Новой Англии – из тех, что для разнообразия подаются в Вин, коль скоро стало скучно в Нантакете. Пообщавшись с ним пару лет, я поняла: это хитроумный способ сообщить, что человек произведен на свет состоящими в кровном родстве родителями. Я видела фотографии близких Чака: они все похожи друг на друга, включая его жену. Такие же квадратные головы, глаза бусинками и волосы цвета, который и цветом-то назвать нельзя, тощие тела в рубашках-распашонках и кардиганах. Однажды Чак без малейшего чувства юмора предложил мне подготовить материал о мексиканцах-иммигрантах, которые горбатились на табачных плантациях, а он заметил их по дороге в Беркшир (да, да, в центральном Массачусетсе есть табачные поля): «Надо влиться в их среду, пожить их жизнью, понять, что ими движет, что у них на уме. Выяснить, какие песни они поют по вечерам у костра». Похоже, Чак в самом деле полагал, что эти серые людишки из Закатекаса после дня изнурительного труда берутся за руки и поют «Кумбайя», как, бывало, он сам, когда подающим надежды подростком выезжал в летний англиканский лагерь.

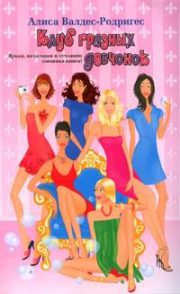
"Клуб грязных девчонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клуб грязных девчонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клуб грязных девчонок" друзьям в соцсетях.