Отвечающий за нас профессор с выцветшими темными зализанными волосами сообщил нам, что никогда на журналистику не набирали такого количества латинос, и при этом осклабил хлипкие клыки, так сказать, улыбнулся, хотя сам дрожал под своим непомерно тесным твидовым пиджаком. Мы пугали его и подобных ему. Как все, кто представлял собой «меньшинства», особенно в Бостоне. И этой коллективной силы устрашения во все более испаноязычном, гойябобоедовском городе хватило, чтобы объединить нас сразу и навсегда. И мы дружим до сих пор.
Многие из вас, полагаю, не говорят по-испански и потому не знают, что за чертовщина эта самая sucia. Ничего страшного. Некоторые из нас, sucias, тоже не знают испанского. Только не говорите моим редакторам из «Бостон газетт», куда, как я все больше убеждаюсь, меня взяли, потому что считали эдакой пикантной штучкой, типичной горячей перчинкой, чем-то между Чаро и Луис Лейн, и до сих пор не раскусили.
Я неплохая журналистка. И совсем негодная латинос, по крайней мере вовсе не то, чего от меня ждут. Только сегодня редактор остановилась у моего стола и спросила, где ей купить мексиканскую фасоль для дня рождения сына. Даже если бы я была мексикано-американкой (и вот вам прикол: я с удовольствием выдрала бы кустистые мохнатые брови вразлет Фриды Кало и сознательно избегаю любого текста, где есть слова «боксер» и «Восточная Л.А.»[8]), то и тогда бы не имела понятия о подобной ерунде.
Вы можете вообразить (спасибо телевидению и Голливуду), что sucia – это нечто красивое, забавное и иностранное, истинно суперлатиноамериканское, как таинственное имя замученного католического святого с окровавленными волосами, или драгоценный рецепт от низенькой толстенькой морщинистой старой бабушки, которая под всхлипы mariachis[9] творит эротическую магию с шоколадом, всякими травами и специями, как порхание кастаньет Сальмы Хайек, как Антонио Бандерас, несущийся на белом коне сквозь заросли кактусов, как – что там еще? – летающая свинья, как расшитая котомка и вся прочая ерунда, которую срежиссировал Грегори Нова и поставил Эдвард Джеймс Олмос. В общем, несусветная чушь.
Sucia значит «грязная девчонка» – грязнуля. Слово пришло в голову Уснейвис. Buena Sucias – весьма оскорбительно для большинства испаноговорящих людей. Так что клуб «Buena Sucias», как выразились бы многие, непочтительное название. Ясно? Непочтительное и неприятное. Видите ли, это шутка – заимствование из имени древних, как грязь, кубинских музыкантов, записывающихся с Ри Кудером, и звезды немецких документалистов. О последнем все мои знакомые нелатиносы говорят, что я генетически предрасположена испытывать к нему симпатию (хотя это совершенно не так). Мы умницы, и, как девчонки на уровне, если речь идет о поп-культуре, мы – sucias. Ну хорошо, согласна, может быть, это глупо. И мы – глупые. Но нам кажется, что это смешно, вот и все. Ребекке – нет. Однако она не веселее геморроя Гитлера. Только вы это слышали не от меня.
Я взглянула на свои часы «Мовадо» – подарок третьего поклонника, если вести счет от сегодняшнего дня. Циферблат часов ничего не выражал, как и мое лицо в тот момент, когда подаривший их сообщил мне, что возвращается к своей бывшей. По мнению Эда, я не должна их больше носить, он говорит, что это ему неприятно. Но я уперлась – купи мне что-нибудь хоть отчасти столь же приличное, и я выброшу эти часы. Хорошие. Надежные. Предсказуемые. Не то что Эд. Судя по ним, время встречи еще не настало. Значит, нечего нервничать. Все, что мне нужно, еще одно пиво: хочу успокоить нервы. Где же все-таки официантка?
Они придут через несколько минут. Я всегда являюсь раньше времени. Журналистское воспитание: опоздаешь – потеряешь материал. Потеряешь материал – рискуешь, что какой-нибудь завистливый, посредственный белый тип в редакции заявит, будто ты недостойна своей работы. «Что с нее взять – латинос. Только и умеет вилять задом и за это получает все, что ей нужно». Один проходимец именно так и сказал. Громко, чтобы я услышала. Он отвечал за программу телепередач и за свои пятьдесят семь лет не написал ни одного путного предложения. Но был уверен, что его судьба не сложилась из-за давления сверху, особенно после того, как главный редактор поднял меня и четырех других из «меньшинств» (читай;– цветных) во время общей летучки и сказал: «Вот будущее "Газетт"». Видимо, он полагал, что поступает политкорректно, зато остальные голубые и зеленые глаза обратились ко мне – как вы думаете, с чем? – вот именно, с выражением ужаса.
А вот как проходило собеседование при моем поступлении на работу: «Вы латиноамериканка? Как мило… значит, говорите по-испански…» Как можно отреагировать на подобный вопрос, даже если ответ «нет», но ваш счет в банке равен 15,32 доллара, и через месяц придется выплачивать по студенческой ссуде? Сказать: «Я заметила, что ваше второе имя Гадро, стало быть, вы говорите по-французски?» Не тут-то было. Приходится подыгрывать. Мне совершенно необходима эта работа, поэтому я готова утверждать, что владею мандаринским наречием. Если тебя зовут Лорен Фернандес, считается, что испанский – часть твоей натуры. Как я понимаю, воинствующий бессмысленный стереотип – это американская болезнь. Мы были бы без этого американцами.
Я смекнула: мне не стоит отвечать, что я наполовину белый продукт – родилась и выросла в Новом Орлеане. Родители моей маменьки – болотные чудища из дельты реки, где под ногами сплошная нефть, и обладатели оливково-зеленой стиральной машины, стоящей прямо перед их двуспальной кроватью, – люди вроде тех, каких показывают в «Копах», где парень тощ, как почивший неделю назад котенок, покрыт фашистскими татуировками и плачет, потому что полиция порушила его сивушную лабораторию.
Вот таковы мои предки. А с другой стороны – кубинцы из Нью-Джерси в сияющих белых ботинках.
Благодаря всему этому и многому другому, чем не намерена вас утомлять, я стала суперпробивным маньяком, одержимым единственной целью – добиться успеха в жизни, то есть в работе, в отношениях с друзьями и, несмотря ни на что, в семье. Всякий раз, когда возможно, одеваюсь так, словно я продукт других, более обычных обстоятельств. И получаю огромное удовольствие, если незнакомцы принимают меня за представительницу богатенькой кубинской семейки из Майами.
Иногда мне кажется, что я добилась своего и перешла на ту сторону, где обитают уравновешенные люди «без потомства». Но затем появляется кто-нибудь вроде моего техасского придурка Эда, и я цепенею, понимая, что как бы совершенно я себя ни слепила, все равно буду значить для мамы меньше, чем глоток пива «Харли». И как бы ни пахала в своем кабинете 401 и сколько бы ни приносила домой премий за свою писанину, все равно буду значить для отца меньше, чем Куба до 1959 года, где и небо голубее, и помидоры вкуснее. Мужчины, подобные Эду, устремляются ко мне, чуя скрытую правду Лорен: я ненавижу себя, потому что ни один человек на свете не полюбил меня.
И снова и снова задаю себе вопрос: какой, к черту, врач способен помочь такой, как я?
И вот я сижу на собеседовании в редакции, в уцененном синем костюме от Барами и трехлетней давности туфлях-лодочках с протертыми подошвами, и говорю им все, что они хотят от меня услышать: Si, si, я стану вашей пикантной штучкой, вашей Кармен Мирандой. Стану танцевать ламбаду на вашей занудной серой газете. А сама думаю: только возьмите, меня. Испанский я выучу потом.
В первую неделю работы редактор проходил мимо моего стола и говорил нарочито громко – такую манеру общаться со мной приняли все: «Я рад, что вы представляете у нас свой народ». Я намеревалась спросить его, какой это такой, по его мнению, мой народ, но заранее знала ответ. Мой народ, с точки зрения его народа, это некий стереотип: все смуглолицы, темноволосы, бедны и необразованны. Они просачиваются через границу из-за бугра с пластиковыми магазинными пакетами, в которых помещаются все их пожитки.
Мне захотелось еще пива. Черт побери!
– Оуе[10], – окликнула я официантку. – Traeme otra.[11]
– Como?[12] – спросила она, привалившись к столику мощным бедром. Ее черные волосы свисали на глаза. Она недоумевающе сморщилась и приняла недовольный вид: человек смотрит мексиканскую мыльную оперу по маленькому, стоящему за прилавком телевизору, а его, видите ли, беспокоят. Пришлось повторить просьбу – я сознавала, какой сильный у меня акцент. Она опять не поняла. Черт! В конце концов пришлось поднять бутылку, перевернуть ее вниз горлышком и изогнуть брови. Типичный язык жестов. Официантка кивнула, помусолила жвачку и удалилась в заднюю комнату за очередной бутылкой cerveza[13]. Постепенно я выучила на работе испанский, но официантка-пуэрториканка вполне способна принять меня за подделку.
Я снова обозрела улицу в ожидании знакомого грязнулемобиля. Знаете, ведь вполне можно судить об окрестностях по тому, какие тут ездят машины. Хотя теперь здесь полная мешанина: короткие, крохотные «хонды» и «тойоты» с переводными картинками «Бойся меня» и писающими Кальвинами на заднем стекле. Они скребут днищем по бордюрам так, что набирается полный двигатель льда (скажите на милость, почему пуэрториканцы считают, что японские машины с низкой посадкой хороши для Новой Англии?), и тут же новейший «вольво», который везет в аптеку какую-нибудь мамашу, а трое ее отпрысков в это время вырывают друг у друга клочья волос с головенок.
У меня нет машины. Только не смейтесь, я способна ее осилить: благодаря небольшой национальной журналистской премии я перевалила за баснословную шестизначную отметку, но со студенческих времен привыкла к общественному транспорту. Мне нравится его суета, к тому же при моей профессии полезно выходить в люди и прислушиваться в автобусе к тому, о чем судачит народ.
Я веду новую еженедельную колонку под безжалостным заголовком «Моя жизнь». Чак Спринг изначально задумал ее под названием «Mi Vida Loca», чтобы, как он выразился, связать проблемы с латиноамериканцами или что-то в этом роде.

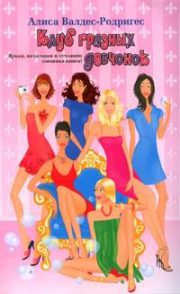
"Клуб грязных девчонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клуб грязных девчонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клуб грязных девчонок" друзьям в соцсетях.