– А у Изабель ноги волосатые! Волосатые! Волосатые!
– Это неприлично! Замолчи! – кричит Изабель, забившись под одеяло и гневно сверкая глазами. Она осыпает Нану ругательствами и угрозами, потом её голос осекается, и, уткнувшись в подушку, она разражается слезами.
– Что вы наделали, Рено!
Он громко смеётся, злой мальчишка, и роняет последний пакетик; тот рвётся, ударившись об пол.
– Во что мне собрать конфеты? – спрашиваю я у своей любимицы.
– Не знаю, у меня здесь ничего нет… Ага! Можно в кувшин! Мой – третий на умывальнике.
В эмалированном кувшине я приношу ей всю эту разноцветную дрянь.
– Рено! Выгляньте в коридор. Мне послышались чьи-то шаги.
Сама я остаюсь сидеть на кровати моей Элен; она сосёт и грызёт конфеты, поглядывая на меня снизу вверх.
Стоит мне ей улыбнуться, как она сейчас же краснеет, потом собирается с духом и улыбается мне в ответ, приоткрывая влажный аппетитный ротик…
– Чему вы смеетесь, Элен?
– Смотрю на вашу рубашку. Вы похожи в ней на воспитанницу, только у вас рубашка из линона… нет, из батиста? И всё просвечивается…
– Да я и есть воспитанница! Не верите?
– Нет… И так жалко!..
(Всё идёт как по маслу. Придвигаюсь ближе.)
– Я вам нравлюсь?
– Да… – едва слышно выдыхает она.
– Хотите меня поцеловать?
– Нет, – торопится она возразить почти с испугом.
Я склоняюсь над ней и переспрашиваю:
– Нет? Знаю я эти «нет», означающие «да»… Я и сама так когда-то отвечала…
Умоляющими глазами она указывает на своих подруг. Но я злючка и просто умираю от любопытства! Я собираюсь мучить её ещё и ещё и снова склоняюсь над ней, ещё ближе… вдруг дверь распахивается, и в дортуар заходит Рено, а за ним – Мадемуазель в пеньюаре (да что я говорю: в домашнем платье) и уже причёсанная, как на парад.
– Ну как, госпожа Клодина, пансион вводит вас в соблазн?
– Угу! В этом году есть на кого глаз положить.
– Только в этом году? Как замужество повлияло на мою Клодину!.. Эй, голубушки, вы знаете, что скоро восемь? Без четверти девять я загляну к вам под кровати и если обнаружу хоть пылинку, заставлю вылизывать языком!
Мы выходим из дортуара вместе с ней.
– Надеюсь, вы нас извините за это утреннее вторжение, мадемуазель? – говорю я уже в коридоре.
Она вполголоса отвечает с неизменной любезностью, ловко скрывая насмешку:
– Сейчас каникулы! И вполне понятно, что ваш муж хочет вас побаловать… по-отечески!
Этого я ей никогда не прошу!
Помню предобеденную прогулку – паломничество на порог «моего» прежнего дома (жизнь в этом гнусном Париже заставила меня ещё больше полюбить дом в Монтиньи); я вспоминаю, как у меня защемило сердце и я застыла у крыльца с двойной лестницей и почерневшими металлическими перилами. Я уставилась на истёртое медное кольцо, на котором я, возвращаясь из школы, любила повиснуть, пока звонил колокольчик; я смотрела так долго, что снова ощутила его в своих ладонях. И пока Рено заглядывал в окно моей комнаты, я подняла на него глаза, полные слёз:
– Давай уйдём, мне плохо.
Моё горе его потрясло. Ни слова не говоря, он повёл меня прочь; я доверчиво прижималась к его плечу. Проходя мимо дома, я не удержалась и поддела пальцем задвижку на ставне первого этажа… и вот…
И вот теперь я недоумеваю: зачем я настояла, чтобы мы заехали в Монтиньи? Что мною двигало? Сожаление? Любовь? Гордыня? Да, и гордыня. Я хотела покрасоваться рядом со своим неотразимым мужем… Да и муж ли это? Скорее любовник и отец в одном лице, мой сладострастный покровитель… Я хотела подразнить Мадемуазель и её Эме (а та взяла да и уехала домой!). И теперь – это послужит мне уроком – я чувствую себя маленькой и совсем несчастной, не знаю, где мой настоящий дом, разрываюсь между двумя городами!
Из-за меня обед не клеится. Мадемуазель не понимает, почему у меня такой растерянный вид (я – тоже); девочки, объевшись сладостей, ничего не берут в рот. Один Рено не унывает и пытает Пом:
– Вы всегда говорите «да», о чём бы вас ни попросили, Пом?
– Да, сударь.
– Как я завидую счастливчикам, которые будут иметь дело с вами, розовым и круглым Яблочком! Вас ждёт прекрасное будущее, заключающееся в справедливом разделе и полной ясности.
Он бросает вопросительный взгляд на Мадемуазель, желая узнать, не раздражает ли её этот разговор, однако та лишь пожимает плечами и замечает в ответ:
– Напрасно стараетесь, она вас не понимает.
– Может, прибегнуть к языку жестов?
– До отправления поезда не успеете, сударь. Пом всё приходится повторять раз по десять.
Я сержусь и знаком останавливаю Моего шалопая-мужа, уже открывшего рот, чтобы ответить. Моя любимица Элен с любопытством следит за моей реакцией, она слушает во все уши (любопытно, что я с первой минуты стала называть её про себя «своей любимицей Элен»).
Прощай, школа! Пока я укладываю вещи, двор сотрясается от звона колокольчика и ругательств папаши Ракалена. Прощайте!
Я любила и теперь ещё люблю эти гулкие светлые коридоры, эту казарму, отделанную розовым кирпичом, этот неожиданно обрывающийся лесистый горизонт; я смаковала в глубине души отвращение к Мадемуазель, мне нравилась её малышка Эме, и Люс, которая так ничего никогда и не узнала.
На мгновение я застываю на лестнице, схватившись рукой за прохладную стену.
Рено внизу, у меня под ногами, продолжает (!) разговаривать с Пом:
– Прощайте, Пом.
– Прощайте, сударь.
– Вы будете мне писать, Пом?
– Я не знаю, как вас зовут.
– Возражение неубедительное! Меня зовут «Муж Клодины». Вы хоть пожалеете обо мне?
– Да, сударь.
– Особенно из-за конфет?
– О да, сударь.
– Пом! Ваше неприличное простодушие воодушевляет. Поцелуйте меня!
У меня за спиной раздаётся едва слышный шорох… Моя любимица Элен тут как тут. Я оборачиваюсь. До чего она хорошенькая: тёмные волосы, белая кожа… я ей улыбаюсь. Она хочет мне что-то сказать. Но я знаю: это слишком трудно; она молча смотрит на меня, её глаза искрятся. И вот, пока внизу покорная и невозмутимая Пом виснет на шее у Рено, я обхватываю одной рукой за плечи эту молчаливую девочку, пахнущую кедровым карандашом и веером сандалового дерева. Она трепещет, потом сдаётся, и, припав к её упругим губам, я прощаюсь со своим недавним прошлым…
Со своим недавним прошлым?.. Уж тут-то я не могу лгать… Элен, подбежавшая к окну, дрожащая, уже влюблённая, провожающая меня! Ты никогда не узнаешь того, что могло бы тебя удивить и опечалить: целуя тебя в жадные и неумелые губы, я видела в тебе лишь призрак Люс!
Прежде чем заговорить с Рено в увозящем нас поезде, я в последний раз смотрю, как башня, будто осевшая под надвигающейся на неё мохнатой тучей, исчезает за горбатым холмом. Почувствовав освобождение, словно простилась с живым существом, я возвращаюсь к своему дорогому, своему легкомысленному другу; он мною восхищается (дабы не потерять навык!), прижимает меня к себе и… я его останавливаю:
– Скажите, Рено, приятно целоваться с этой Пом? Я строго смотрю ему прямо в глаза и никак не могу проникнуть в глубь его тёмно-синих зрачков.
– «С этой Пом»? Дорогая! Неужели я достоин великой чести, живейшего удовольствия: ты ревнуешь?
– Вы отлично знаете, что это никакая не честь: я не могу относиться к Пом как к достойной вас победе.
– Деточка моя, любовь моя! Если бы ты сказала: «Не целуйся с Пом», мне бы даже не принадлежала теперь эта скромная заслуга: оставить у себя за спиной вздыхающую школьницу!
Да. Он сделает всё, что я захочу. Но он не ответил прямо на мой вопрос: «Приятно целоваться с этой Пом?» Он умудряется не принадлежать мне целиком, выскальзывает, окружает меня «уклончивыми» ласками.
Он меня любит, что вне всяких сомнений, и это главное. К счастью, и я его люблю, это также верно. Но он похож на женщину даже больше, чем я! Мне кажется, я держу себя проще, я более резкая… мрачная… страстная…
Я намеренно избегаю слова «искренняя». Я могла бы так сказать год с небольшим тому назад. В то время я была неспособна, стоя на верхней ступени лестницы, ведущей из дортуара, так скоро соблазниться и поцеловать эту девочку в губы, влажные и холодные, словно надтреснутый плод, отговорившись тем, что прощаюсь со своим школьным прошлым, со своим детством в форменном платьице… Тогда я бы ограничилась поцелуем парты, над которой Люс склоняла упрямую головку.
Я чувствую, как за последние полтора года исподволь разлагаюсь, чем обязана моему Рено. Стоит ему соприкоснуться с чем-нибудь великим, и оно мельчает, а нечто, представляющееся смыслом всей жизни, сокращается на глазах; зато незначительные мелочи, в особенности пагубные, приобретают огромную важность. Однако как противостоять неизлечимой и соблазнительной фривольности, которая увлекает его, а вместе с ним и меня?
Хуже того: Рено разгадал мою тайну – врождённое и уже осознанное сладострастие, и я его сдерживаю, поигрывая им с опаской, словно ребёнок – смертельным оружием. Рено дал мне почувствовать, на что способно моё гибкое мускулистое тело с твёрдыми ягодицами, едва наметившейся грудью, кожей, напоминающей отполированную вазу; я познала власть своих глаз цвета египетского табака (их взгляд стал со временем беспокойнее и глубже), а также прелесть коротких пушистых волос цвета недозрелого каштана… Эту вновь открытую в себе силу я почти неосознанно обращаю на Рено – а останься я ещё на два дня в Школе, я также обратила бы её на очаровательную Элен…
Да-да, не вынуждайте меня, не то я скажу, что по вине Рено поцеловала в губы свою любимицу Элен!
– Клодина! Почему ты молчишь, дорогая? О чём задумалась?
Помню, он спрашивал так в Гейдельберге, на террасе отеля, в то время как я переводила взгляд с излучины Неккара на искусственные развалины Шлосса у нас под ногами.

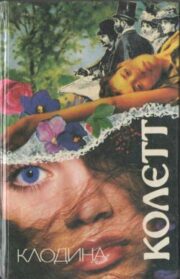
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.