Снисходительный смех моего друга немного меня раздражает. Не покажусь ли я ему слишком провинциальной? Нет, просто он меня ревнует к прошлому, видя, что оно захватило меня всю.
Улица приводит нас наконец на бугристую площадь в самом конце спуска. В тридцати шагах от нас, за решёткой, выкрашенной в стальной цвет, удобно расположилась большая белая школа, крытая шифером, который пережил всего три зимы и четыре лета и потому выглядит как новенький.
– Клодина! Это казарма?
– Да вы что! Это же школа!
– Бедные дети…
– Почему «бедные»? Могу поклясться, мы здесь не скучали.
– Ты-то, чертовка, уж конечно! А другие?.. Можно войти? Надеюсь, арестантов разрешается посещать в любое время?
– Где вас воспитывали, Рено? Разве вы не знаете, что сейчас каникулы?
– Да ну?! И ты привела меня сюда только затем, чтобы показать эту пустую тюрьму? А сама дрожала в ожидании этого свидания, как машина под парами?
– Нет, как ручная тележка! – с победоносным видом бросаю я: года, проведённого в чужих краях, оказалось довольно, чтобы пересыпать мой провинциальный лексикон «парижскими» остротами.
– А что если я лишу тебя десерта?
– А не посадить ли мне вас на диету? Внезапно с меня слетает весёлость и я умолкаю, нащупав задвижку на тяжёлых воротах и чувствуя, что она, как прежде, поддаётся не сразу…
К колонке во дворе подвешен на цепочке всё тот же ржавый стаканчик. Побелённые в позапрошлом году стены сверху донизу исцарапаны нервными коготками юных пленниц. Чахлая трава пробивается между кирпичами водосточного жёлоба.
Никого.
Рено покорно плетётся сзади. Я поднимаюсь по небольшой лестнице всего в шесть ступенек, отворяю застеклённую дверь, иду по коридору, плиты которого гулко отзываются на мои шаги; коридор соединяет старший класс с тремя младшими… В лицо пахнуло спёртым воздухом, впитавшим в себя запахи чернил, меловой крошки, веника, чёрной доски, наспех вымытой грязной губкой, – и вот уже я задыхаюсь от необъяснимого волнения. Уж не тень ли Люс в полотняных тапочках и чёрном фартуке бесшумно прошмыгнула за этот угол и прижалась к моим ногам, докучливая в своей нежности?
Я вздрагиваю и чувствую, как меняюсь в лице: кто-то в полотняных тапочках и чёрном фартуке приотворяет дверь в Старший класс… Да нет, это не Люс; хорошенькая ясноглазая мордашка уставилась на меня, хотя я её раньше не видела. Успокоившись и почувствовав себя почти дома, я иду навстречу:
– Где Мадемуазель, крошка?
– Не знаю, мада… мадемуазель. Может, наверху.
– Ладно, спасибо. А… вы, значит, не на каникулах?
– Я – одна из пансионерок, которых оставили на каникулы в Монтиньи.
Что за прелесть эта пансионерочка, оставленная на каникулы в Монтиньи! Каштановые кудряшки ниспадают на чёрный фартук; она кривит и прячет аппетитный свежий ротик, а бархатные карие глаза – скорее красивые, нежели живые, – придают ей сходство с пугливой ланью.
Пронзительный голос (до боли знакомый!) обрушивается на нас с лестницы:
– Пом, с кем вы там беседуете?
– Не знаю, мадемуазель, – простодушно кричит в ответ девчушка и торопится вверх по лестнице, ведущей в комнаты и дортуары.
Я оборачиваюсь и улыбаюсь Рено глазами. Он заинтригован и начинает входить во вкус.
– Слышишь, Клодина? Её зовут Пом: Яблочко! С таким именем её, пожалуй, скоро кто-нибудь слопает. Какое счастье, что я всего-навсего старый господин вне конкуренции!..
– Замолчите вы, бабник! Сюда идут. Торопливое перешёптывание; отчётливо слышно, как кто-то спускается, и вот показывается мадемуазель Сержан; она одета в чёрное, её волосы будто охвачены огнем в лучах заходящего солнца; она до такой степени похожа на самоё себя, что я чувствую, как во мне поднимается желание её укусить, прыгнуть ей на шею ради всего того Прошлого, что она мне несёт во взгляде своих ясных чёрных глаз.
Она замирает секунды на две; этого довольно, она всё увидела: увидела, что я – Клодина, что у меня коротко стриженные волосы, что мои глаза стали ещё больше, а лицо осунулось, что Рено – мой муж да к тому же (рассказывайте, я вас слушаю!) красивый мужчина.
– Клодина! Вы совсем не изменились… Отчего же было не предупредить о своём приезде? Здравствуйте, сударь. Это легкомысленное создание ничего мне не сообщило о вашем визите! Придётся в наказание заставить её исписать двести строк. Что, она по-прежнему ребячлива и ужасно себя ведёт? Вы уверены, что на ней стоило жениться?
– Нет, мадемуазель, совсем не уверен. Просто у меня оставалось мало времени, а я не хотел жениться in extremis.[1]
Шутка хороша, они друг друга стоят и должны подружиться. Мадемуазель любит красавцев-мужчин, хотя пользы ей от этого немного. Ладно, пусть сами разбираются.
Пока они беседуют, я прошмыгну в старый класс и поищу свой стол, тот самый, за которым мы сидели вместе с Люс. Мне удаётся его отыскать, и под чернильными пятнами свежими или выцветшими царапинами я разбираю обрывки вырезанной ножом надписи: «…юс и Клоди… 15 февраля 189…»
Припала ли я к ней губами? Точно сказать не могу… Когда я наклонилась над столом, чтобы получше его рассмотреть, возможно, мои губы коснулись его изрезанной крышки… Но если бы я хотела быть откровенной, я бы сказала, что только теперь отдаю себе отчёт, а тогда с трудом сознавала, что эта нежная девочка Люс готова на всё, и мне понадобились целых два года замужества и возвращение в эту школу, чтобы понять, чего заслуживала эта свеженькая, пресмыкающаяся девочка, испорченная и всегда готовая к услугам.
Голос мадемуазель Сержан выводит меня из задумчивости.
– Клодина! Вы совсем потеряли голову! Что я слышу?! Ваши вещи у Ланж!..
– Да, чёрт возьми! А как же иначе? Не могла же я оставить ночную сорочку в привокзальной камере хранения!
– Это просто смешно! У меня здесь полно свободных кроватей, не говоря уж о комнате мадемуазель Лантеней…
– Как?! Неужели мадемуазель Эме нет? – восклицаю я, изображая изумление.
– Ну-ну! И чем вы только думаете! (Она подходит ближе и с нескрываемой насмешкой проводит по моим волосам.) На время каникул, госпожа Клодина, воспитательницы разъезжаются по домам.
(Дьявольщина! А я-то рассчитывала полюбоваться парочкой Сержан—Лантеней сама и поразвлечь Рено! Вот уж не думала, что каникулы могут разлучить этих влюблённых… Положим, эта стервочка Эме дома не задержится! Понимаю теперь, почему мадемуазель так тепло нас встретила: мы с Рено не можем ей помешать… А жаль!)
– Спасибо за приглашение, мадемуазель; мне будет очень приятно провести ночь в школе и снова почувствовать себя девочкой… А что это за зелёное яблочко – Пом – нас встречало? Так, кажется, её зовут?
– А-а, эта дурёха не сдала экзамен за неполную среднюю школу после академического отпуска. Пятнадцать лет! Дурацкая история! Девчонка проведёт здесь каникулы в наказание, но ей, похоже, на это наплевать. У меня наверху ещё две парижаночки ей под стать: будут здесь прохлаждаться до октября… Вот вы увидите… Впрочем, займёмся сначала вашим размещением.
Она искоса взглядывает на меня и самым естественным тоном спрашивает:
– Может, переночуете в комнате мадемуазель Эме?
– Я переночую в комнате мадемуазель Эме!
Рено идёт следом, вынюхивает скандальчик и развлекается вовсю. Глядя на неуклюжие двухцветные рисунки, развешанные по стенам коридора на кнопках, он едва сдерживается: ноздри его раздуваются, а усы топорщатся от смеха.
Комната фаворитки… С тех пор, как я уехала, всё здесь изменилось к лучшему… Эта белоснежная полуторная кровать, эти весёленькие легкие занавески на окнах и каминные украшения (ай!) из мрамора и меди – всё сияет чистотой, в складках занавесок притаился едва уловимый аромат, и он меня немало волнует.
– Скажи пожалуйста! – восклицает Рено, притворив за собой дверь. – А комнаты у воспитательниц очень недурны! Это меня отчасти примиряет с твоей начальной школой.
Я прыскаю со смеху.
– Ха-ха-ха! И вы думаете, что это казённая обстановка? Вспомните: я же вам рассказывала об Эме и её роли общепризнанной фаворитки. Вторая воспитательница довольствуется железной кроватью в ноль метров девяносто сантиметров, деревянным крашеным столом и таким умывальником, в котором я и котёнка не стала бы топить.
– Так, значит, здесь, в этой самой комнате…
– Да, здесь, в этой самой комнате…
– Клодина! Ты не поверишь, до чего меня впечатляют эти скабрёзные намёки…
Ну почему же нет? Охотно поверю. Но я ничего не хочу видеть и слышать и, скорчив гримасу, рассматриваю скандально известную кровать. Возможно, для них обеих кровать вполне широка. Для них, да только не для нас. Нам с Рено будет тесно, жарко, потом я не смогу лечь на спину, развести колени в сторону и отдохнуть… Вот чёрт!
Вновь обрести хорошее настроение мне помогает знакомый, дорогой сердцу пейзаж, словно вставленный в раму распахнутого окна. Леса, скудные поля, сжатые полосы, гончарная мастерская, пышущая жаром по вечерам…
– Рено! Взгляни вон туда! Видишь черепичную крышу? Там делают коричневые блестящие горшочки, кувшины с двумя ручками и маленьким таким пупочком трубочкой, жутко непристойным…
– Ночные вазы? Вот это очень мило, так и знай!
– Раньше, когда я была наивной девчонкой и ходила поглазеть на гончаров, они мне давали потрогать коричневые горшочки и кружки и, размахивая вымазанными глиной руками, с гордостью говорили: «Не кто-нибудь, а мы поставляем посуду в харчевню Анд-ре в Париже!»
– Правда? Ах ты, мой ангел! Я, старик, пил раза два из этих кувшинчиков и даже не догадывался, что твои изящные пальчики поглаживали, возможно, их бока. Я люблю тебя…
Нас разлучают шум шагов и звонкие голоса, доносящиеся из коридора. Шаги замирают у нас на пороге, голоса умолкают, теперь слышен лишь шёпот. В дверь робко стучат.
– Войдите!
Появляется Пом – пунцовая, проникнутая сознанием собственной важности.

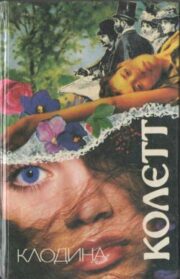
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.