– Дешевле? Не доверяю я вашим скидкам!..
– Ну посудите сами: зачем мне вас обирать?! И потом, каждый человек либо честен, либо нет…
– Вы – нет. Спасибо, не хочу.
– Заплатите мне сколько захотите.
– Чем? – Она полуприкрывает свои дымчатые глаза. – Вы, вероятно, могли бы ограничиться пустяками, пренебрегая сутью дела.
– Я бы предпочёл дойти до сути.
Рези чувствует себя отчасти оскорблённой, и в то же время ей это льстит: она нахохлилась и выставила грудь колесом, совсем как Фаншетта, натолкнувшаяся в траве на кузнечика-переростка или жука-рогача.
– Говорю же вам: нет, благодетель рода человеческого! Я, кстати, до такой жизни ещё не дошла.
– До чего же вы уже дошли?
– Я способна расплатиться.
– Как именно? Расплатиться можно по-разному, существует по крайней мере два способа…
Её лицо розовеет, она старательно щурится, словно вдруг вспомнив о своей близорукости, потом оборачивается ко мне и, подавшись в мою сторону, умоляюще шепчет:
– Клодина! Неужели вы не вызволите меня?..
– Можете рассчитывать на меня, но не на утешения Рено.
– Как?! Неужели ревнуете?
Её глаза загораются злорадством, и она заметно хорошеет. Сидит она на краешке стула, одну ногу вытянув, а другую согнув в колене, и его плотно облегает юбка. Рези наклоняется ко мне в напряжённой позе, будто приготовившись сбежать. Золотистый пушок, покрывающий её щёку, чуть светлее волос; её ресницы беспрестанно подрагивают, они прозрачны подобно невесомому осиному крылышку. Сражённая её прелестями, я совершенно искренне возражаю:
– Ревную? Да нет. Рези, вы слишком хороши: если бы Рено изменил мне с уродиной, я ни за что бы не простила! Какое унижение!
Рено дарит меня одним из тех мудрых взглядов, какие заставляют меня вернуться под его крыло, когда моя дикость или особенно сильный приступ одиночества заводят меня слишком далеко… Я благодарна ему за то, что вот так, поверх головы Рези, он посылает мне столько нежных слов, и всё – без единого звука…
Тем временем Рези-Блондиночка (неужели она меня раскусила?) подходит ближе, нервно потягивается, не вынимая рук из муфты, надувает губки, фыркает и бормочет:
– Ну вот… У меня от вашей сложной психологии живот подвело: я есть хочу!
– Ах, бедняжка! Я же вас голодом заморила! Я подскакиваю и бегу к звонку.
Немного спустя над дымящимися чашками и чуть тронутыми маслом тостами воцаряются мир и согласие. Однако я презираю этих претенциозных людей с их чаем. Чуть расставив ноги и поставив корзинку в образовавшуюся между коленями ямку, я обрываю с гроздьев увядшие ягоды боярышника, ощипываю и давлю в пальцах вялую мушмулу – зимние плоды, которые прислала мне Мели из родных краёв; ягоды залежались в погребе и попахивают плесенью.
А поскольку один из тостов, подгоревший и почерневший, наполняет комнату запахом креозота и свежего угля, воображение сейчас же переносит меня в Монтиньи, к камину с колпаком… Мне кажется… да, я ясно вижу, как Мели подбрасывает охапку сырого хвороста, и греющаяся у огня Фаншетта немного отодвигается: её возмущают нахальные языки пламени, как и потрескивание только что брошенных в огонь дров…
– Девочка моя!..
Оказывается, я размечталась вслух! Рено это развеселило, а Рези повергло в изумление. Я смущаюсь и краснею.
Сиротская зима тянется мучительно долго. Дни то пролетают незаметно, то им не видно конца. Театры, ужины, утренние приёмы и концерты до часу ночи, а иногда и до двух. Рено держится молодцом, а мне так тяжело!
Просыпаемся поздно, под кипой газет не видно кровати. Всё своё внимание Рено уделяет «отношениям с Англией», а также с Клодиной, которая лежит на животе, предаваясь злорадным мечтам; Клодина любит поспать, а эта неестественная жизнь лишает её такой возможности. Наскоро обедаем; муж ест розовое мясо, я – всевозможные сладости. От двух до пяти– разнообразная программа.
Зато неизменной остаётся моя встреча с Рези либо у неё, либо у меня. Она всё больше ко мне привязывается и не скрывает этого. Я тоже к ней привязываюсь, но, признаться, стараюсь это скрывать…
Почти каждый вечер в семь часов мы выходим после чая или из какого-нибудь бара, где Рези согревается коктейлем, а я ем пересоленный хрустящий картофель, и я с тихим бешенством думаю о том, что надо одеваться, что Рено уже ждёт меня, поправляя жемчужные запонки. Я должна признаться (моя скромность просто кровью обливается!), что благодаря короткой и удобной причёске одинаково волную и женщин и мужчин.
Из-за моей стриженой головы и холодности по отношению к мужчинам те думают: «Она интересуется женщинами». Непостижимо! Раз я не люблю мужчин, я должна искать общества женщин… О примитивный мужской ум!..
Кстати сказать, женщины – тоже из-за коротко стриженных волос и равнодушия к их мужьям и любовникам– склонны думать так же, как они. Я несколько раз ловила на себе прелестные любопытные взоры, стыдливые и пугливые. Стоило мне задержаться взглядом на чьём-нибудь зеркальном плечике или безупречной шее, как дама сейчас же краснела. Кроме того, мне пришлось выдержать натиск завистниц, что вполне понятно. Однако эти салонные профессионалки – квадратная дама лет пятидесяти, а то и больше; тощая брюнетка с плоским задом; израильтянка с моноклем, сующая свой острый нос в чужие декольте, будто намереваясь выудить оттуда обронённое кольцо, – эти обольстительницы открыли в Клодине равнодушие, которое их заметно шокировало. Это едва не стоило ей репутации. Зато вечером третьего дня я приметила на губах у одной из моих «приятельниц» (читай: одной молодой писательницы, с которой я встречалась раз пять) до того злую усмешку при имени Рези, что сейчас же всё поняла. Думаю, муж Рези ещё попортит ей кровь, когда сплетники прожужжат ему все уши.
Впрочем, мне на днях почти удалось (сама не знаю, как это вышло) приручить этого неприятного человека.
По спине у меня бегали мурашки, и я против воли слушала, как на половине Рено мужчины, молодые и лысые, до хрипоты спорили о литературе… «Его последний роман? Да не поддавайтесь вы шумихе! Он выдержал всего шесть изданий. – Нет, восемь!.. – А я вам говорю – шесть! Да при том же всего по двести экземпляров, включая сверхтиражные, как я слышал от Севена! – Ещё бы! Книготорговец печатает, что хочет, он забирает весь тираж, и хоп! – Вот, к примеру, мой "Анализ души": один только Флури продавал но двадцать экземпляров в день, а я за всё про всё заработал тридцать луидоров. И при том мне отказались выплатить жалкий аванс в сто пятьдесят франков, каково? – Подумать только! Мы же не получаем пи гроша за сверхтиражные экземпляры, это возмутительно! Я выклянчиваю книжки под тем предлогом, что они мне нужны для переиздания, и загоняю их Гужи. – Я тоже. – И я, чёрт побери, надо же как-то выкручиваться! – Дорогой мой! Получая сорок процентов, а с розницы – все пятьдесят два, издатель запросто мог бы платить нам по сорок су с книги, и оставшаяся прибыль составила бы кругленькую сумму. – Он мог бы безболезненно расстаться и с тридцатью су. – Какие паразиты, а?»
Они говорили все разом, с той убеждённостью, какая бывает, когда собеседники сознательно не слышат друг друга; я подумала о Киплинге, об обезьяньей стае и прошептала: «Бандар-лог!» Стоявший рядом Ламбрук при этом хорошо знакомом слове из языка индусов судорожно сжал челюсти. Он в упор взглянул на меня своими промытыми светлыми глазами. Однако на другом конце салона раздался нервный смешок Рези, и он поднялся с безразличным видом посмотреть, с кем это его жена так шумно веселится.
Известный романист (специальность: копание в женских душах) занял место этого вечно подозрительного мужа и, играя на публику, шепнул мне на ухо: «До чего отвратная погода!» с выражением человека, который бьётся в экстазе. Я уже привыкла к ухваткам этого «красавчика», как его прозвал Рено, и не стала ему мешать: он мирно продолжал свою импровизацию, подготовленную перед зеркалом и разыгранную не без таланта, о расслабляющей зиме без холодов, о восхитительном малодушии, которое приносят с собой ранние сумерки, об обманчивой весне, которую сулит этот тревожный декабрь… Более обещающая весна – тёплая, трепещет под пушистыми мехами (недурной переход)… Отсюда понятно и желание сбросить эти пышные меха на умеющий хранить тайны ковёр всё понимающей холостяцкой квартиры, а она всего в двух шагах отсюда… Дай этому недоумку волю, и он, пожалуй, потащит меня туда…
Я напускаю на себя мечтательный вид, притворяюсь, что уже растаяла под его обаянием, и шепчу:
– Да… Улица пропитана пресным запахом, опьяняющим и вредным, как в оранжерее…
И резко заканчиваю, утрируя диалект родных мест, дабы окончательно сбить с толку своего собеседника:
– Ах, чёрт побери, хлеба нынче взойдут раньше обычного, да и овсы тоже!
Должно быть, он решил, что я полная дура! Я заплясала бы от радости по такому случаю. Однако я обидела этого чудака до глубины души и теперь он тоже на каждом углу станет твердить, гордо выпятив грудь: «Клодина? Ей только с женщинами общаться!..», а про себя прибавит: «… Раз она не подходит мне».
С женщинами? Жалкие идиоты! Зашли бы они к нам в спальню ровно в десять утра!.. Бог мой! Они бы увидели, умею ли я «общаться с мужчинами»!
Я получаю от папы напыщенное и грустное письмо. Вопреки обычному своему жизнелюбию, папа раздражён: не хватает меня. В Париже ему было на меня наплевать. Там старый дом показался ему опустевшим, нет его любимой Клодины. Нет больше тихой девочки с книгой на коленях, забившейся в огромное кресло, которое трещит по швам, – или взобравшейся на орешник и хрустящей, словно белка, ореховой шелухой, – или вытянувшейся во всю длину и повисшей на заборе в предвкушении соседских слив, а также георгинов мамаши Адольф… Папа ни о чём таком не пишет, его удерживает чувство собственного достоинства; да и благородство его стиля не допускает никакого ребячества. Однако он так думает. И я вместе с ним.

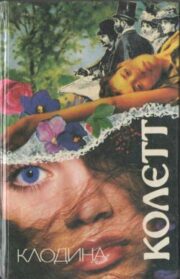
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.