– Ч-чёрт… кто этот идиот?..
Восхищённая произведённым эффектом, я смеюсь всё громче, но внезапно замолкаю, поскольку ужинавшие за соседними столиками, услышав мой смех, повернули к нам головы. Рено от этого не в восторге.
– Хитро же вы меня разыграли!.. Но знаете, я на самом деле не поверил ни одному вашему слову.
– Я не могу сейчас три раза плюнуть и растереть, но, честное слово, мне сделали предложение!
– Кто?
До чего же недоброжелательно звучит это «кто».
– Очень приличный молодой человек, господин Мариа, папин секретарь.
– Вы ему отказали… конечно?
– Я ему отказала… конечно.
Он разом выпивает бокал асти, которое совсем не любит, и проводит рукой по волосам. Ну а я, ведь дома я не пью никогда ничего, кроме воды, вдруг замечаю, что происходят совершенно невероятные вещи: какая-то лёгкая туманная паутина поднимается от стола вверх, словно нимбом окружает люстры, то отдаляет, то приближает предметы… В то время как я, по моему разумению, изучаю своё состояние, чей-то знакомый голос вдруг кричит с порога залы:
– Кельнер! Да приблизится к нам вашими стараниями свинина с картошкой и кислой капустой, матерь изжоги, и эта пресная лакричная настойка, сдобренная салициловой кислотой, которую ваше бесстыдство называет здесь мюнхенским пивом. Струящийся бархат, водопад благоуханных волос Дочерей Рейна, прости им, ибо не ведают, что пьют! «Ваейа, вага, вага, вейа…»
Это Можи, настроенный лирически, обливающийся потом, вагнеризирующий, с расстёгнутым жилетом, в цилиндре с плоскими полями, откинутом на затылок. Он тащит за собой троих друзей. Рено не может сдержать жеста крайней досады, он пощипывает усы и что-то ворчит себе под нос.
Оказавшись рядом с нами, Можи внезапно перестаёт наслаждаться «Золотом Рейна», округляет свои выпуклые глаза, с минуту колеблется, поднимает вверх руку и проходит мимо не здороваясь.
– Вот так! – яростно шепчет Рено.
– Что такое?
– В этом ваша вина, милочка, но больше всего – моя. Вам не место здесь, наедине со мной. Этот болван Можи… да каждый на его месте так поступил бы. Вы полагаете, что это пойдёт вам на пользу – дать повод плохо думать о вас и обо мне?
Его недовольные, озабоченные глаза несколько остужают мой пыл, но я быстро приободряюсь.
– И всё из-за этого, да? Нет, вы из-за этого подняли такой «тарарам», устроили это представление с нахмуренными бровями и нравоучениями? Я спрашиваю вас, мне-то какое до всего этого дело? Дайте мне выпить, пжалуста.
– Вы что, не понимаете? Не в моих привычках водить в кабаки порядочных девиц. Что люди подумают, глядя на такую красивую девушку, как вы, сидящую здесь вдвоём со мной?
– Ну и что такого?
Моя пьяная улыбка, мои блуждающие глаза внезапно открывают ему истину.
– Клодина! Вы, верно, немножко… навеселе? Вы много пьёте неразбавленного вина нынче вечером. Разве у вас дома…
– Дома я пью минеральную воду, – отвечаю я любезно, ободряющим тоном.
– Ай-яй-яй! Ну и дела! Что я скажу вашему отцу?
– Он спит сладким сном.
– Не пейте больше, Клодина, сейчас же дайте мне этот полный бокал!
– Я дам вам тумака!
Отстраняясь от его благоразумных рук, я выпиваю свой бокал и прислушиваюсь к переполняющему меня счастью. Конечно, кое-что смущает меня. Люстры всё больше и больше окружает сияние, как луну, когда пойдёт дождь. «Луна напивается», – говорят там, у нас. Может быть, это признак дождя в Париже, когда люстры напиваются… Это ты, Клодина, напилась. Три больших бокала асти, дурёха! Как это приятно!.. В ушах у меня шумит… Вон те два толстых господина, что-то жующие через два столика от нас, существуют они на самом деле или нет? Они приближаются к нам, хотя и не двигаются с места: готова поспорить, стоит мне протянуть руку, и я дотронусь до них… Нет, они опять очень далеко. Впрочем, нет промежутков между предметами: люстры приклеены к потолку, столы приклеены к стене, толстые господа приклеены к светлым, усыпанным блёстками дамским манто, которые сидят там дальше, за столиком. Я кричу:
– Я понимаю! Это же всё в японской перспективе! Рено в отчаянии поднимает руку, потом вытирает вспотевший лоб. В зеркале справа – такая странная Клодина, с волосами, точно взъерошенные перья, в её удлинённых глазах – радость и смятение, и губы у неё влажные! Это совсем другая Клодина, «сбитая с панталыку», как у нас говорят. А напротив неё – господин с волосами, отливающими серебром, который смотрит на неё, смотрит на неё, смотрит только на неё и уже ничего не ест. О, я прекрасно всё понимаю! Вовсе не асти и не наперчённые раки, а его присутствие здесь и его почти чёрный в свете люстр взгляд опьянили маленькую девочку…
Я словно раздваиваюсь, вижу, как я себя веду, слышу, как говорю каким-то идущим издалека голосом, и разумная Клодина, скованная, загнанная в какую-то стеклянную клетку, слушает, как болтает безумная Клодина, и ничем не может ей помочь. Она ничего не может сделать, и к тому же ничего не хочет. Потолок, который, как я боялась, вот-вот обрушится, рухнул наконец со страшным грохотом, и поднятая его падением пыль образует ореол вокруг электрических лампочек. Смотри на это, разумная Клодина, и не шевелись! Безумная Клодина следует своим путём, с безошибочностью слепых и безумцев…
Клодина смотрит на Рено; ослеплённая, она хлопает ресницами. Смирившийся, вовлечённый, втянутый в водоворот, он молчит и смотрит на неё взглядом, в котором, пожалуй, больше печали, чем радости. Она восклицает:
– О, до чего мне хорошо! А вы не хотели сюда заходить! Ах! Но раз я хочу… Мы отсюда не уйдём никогда, правда? Если бы вы знали… я вам подчинилась в тот день, я, Клодина, – а я никогда никому не подчинялась до вас, только притворялась… но подчиниться помимо своей воли, когда у тебя так сладостно подкашиваются колени! – о, это как раз то, что страшно нравилось Люс – быть избитой, вы знаете, кто такая Люс? Я так её била, не понимая, что она была права; её голова перекатывалась по подоконнику в том месте, где дерево было выщерблено, потому что на переменках там кололи водяные орехи… Вы ведь знаете, что такое водяные орехи? Однажды я захотела сама их выловить в пруду Барра и подхватила лихорадку, мне было двенадцать лет, и мои прекрасные волосы… Я, верно, больше бы вам понравилась с длинными волосами?.. У меня мурашки в кончиках пальцев, настоящий «мурашковейник». Вы чувствуете? Запах полыни? Вон толстый господин налил себе абсент в шампанское. В Школе мы сосали зелёные леденцы с привкусом полыни; их полагалось очень долго сосать, так, чтобы заострился кончик. Дылда Анаис была такой сластёной и такой терпеливой, что у неё они получались тоньше, чем у кого-либо, и малыши приносили ей свои леденцы. «Сделай мне острый кончик!» – говорили они. Это отвратительно, правда? Я видела вас во сне. Вот в чём я не хотела вам признаваться. Такой ужасный, слишком сладостный сон… Но теперь, когда я испарилась отсюда, я могу вам это сказать…
– Клодина, – молит он тихим голосом…
Положив на скатерть обе ладони, безумная Клодина, вся устремившись к нему, смотрит в его лицо не отрываясь. У неё растерянные глаза, в них уже нет ничего потаённого; лёгкий локон, упавший на лоб, щекочет правую бровь. Слова льются из неё потоком, как из переполненного сосуда, а ведь обычно она такая молчаливая, замкнутая. Она видит, как он то краснеет, то бледнеет, тяжело дышит, и ей представляется это вполне естественным. Но почему его не охватывает такой же экстаз, как её, такая же раскрепощённость? Она словно в тумане задаёт себе этот вопрос и громко отвечает на него со вздохом:
– Теперь уж ничего печального со мной не может случиться.
Рено решительно делает знак метрдотелю, как человек, сказавший себе, что «дальше так продолжаться не может».
Клодина разглагольствует с горящими щеками, жуёт лепестки чайных роз.
– До чего вы глупы!
– Да?
– Да. Вы солгали. Вы помешали Марселю прийти сегодня.
– Нет, Клодина.
Это мягкое «нет» подействовало на неё и немного остудило её пыл. Подобно сомнамбуле, она не противится, когда он помогает ей встать, и позволяет повести себя к выходу. Но вот паркет какой-то слишком мягкий, точно только что положенный, ещё горячий асфальт… Рено едва успевает подхватить её под локоть, он ведёт её, почти несёт к фиакру с опущенным верхом и садится рядом с ней. Экипаж трогается. В голове у Клодины шумит и нет ни единой мысли, она склоняет её на спасительное надёжное плечо. Рено тревожится:
– Вам нехорошо?
Никакого ответа.
– Нет. Но держите меня покрепче, потому что я плыву. Впрочем, всё кругом плывёт. Да и вы тоже, вы плывёте, правда?
Он обвивает рукой её талию, тревожно вздыхает. Она теснее прижимает к нему голову, но ей мешает шляпка. Неверной рукой она снимает её и кладёт себе на колени, потом снова склоняет голову на надёжное плечо с уверенностью человека, после долгого пути достигшего наконец своей цели. И разумная Клодина наблюдает это, отмечает в своей памяти, порой приближается к ней совсем близко… Подумаешь, удача! Эта разумная Клодина почти такая же сумасшедшая, как и та, другая.
Её спутник, её возлюбленный друг, не в силах устоять, сжимает в объятиях это хрупкое безвольное тело… Потом, овладев собой, он нежно трясёт её.
– Клодина, Клодина, придите в себя, мы подъезжаем к дому… Сможете ли вы без всяких затруднений подняться по лестнице?
– По какой лестнице?
– По вашей лестнице, на улице Жакоб.
– Вы собираетесь меня покинуть?
Она выпрямляется, напрягаясь, словно маленький уж, и без шляпки, с всклокоченными волосами, с потрясённым лицом вопрошает его взглядом.
– Но послушайте, детка… возвращайтесь домой. Мы сегодня вели себя по-идиотски. Всё произошло по моей вине…
– Вы собираетесь меня покинуть! – восклицает она, не заботясь о внимательной спине кучера. – Куда вы хотите, чтобы я шла? Я хочу идти за вами, с вами…

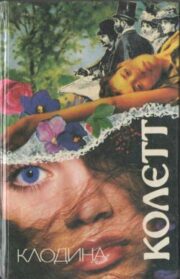
"Клодина в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в Париже" друзьям в соцсетях.